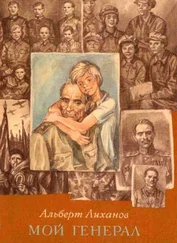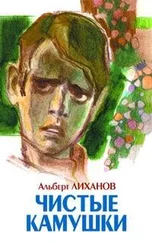— Ну да, — ответил доктор.
— Про Африку?
— Про Африку? — удивился доктор.
— Так эти же бабочки оттуда?
— Ах, бабочки! Ну да! Хорошо бы… — Он опять начинал угасать, замирать, гипнотизироваться.
И уже прощаясь, вдруг сказал жарко:
— Иду — думаю. Сижу — думаю. Говорю — думаю. Сплю — думаю. Все мои думы про них.
И он объяснил, помолчав:
— О сыне и о жене.
Вот так и вот тогда только и я, и бабушка, и мама узнали, что у доктора есть сын.
Но мы не знали, что он в плену.
Не знал об этом и доктор.
Со временем, постепенно, выяснилось, что сын Россихина Евгений был хороший математик, закончил университет в Ленинграде, и его послали в артиллерию, когда началась война. Он стрелял из гаубиц — больших пушек с огромными снарядами, а для этого нужно хороню считать. Вот и все, что мы узнали постепенно. И еще узнали, что от сына нет никаких известий. А раз нет даже похоронки из военкомата, значит, жив и надо ждать.
Вот доктор и ждал, замерев, остановившись, все делая будто под гипнозом. И все, что можно, продавал, чтобы купить жене это редкое лекарство от туберкулеза. Как его? Пенициллин.
Я все спрашивал маму: как так, ведь лекарства в больнице бесплатные, значит, их не надо покупать и жену доктора, незнакомую мне пианистку, должны лечить не за деньги.
— Не за деньги и лечат, — отвечала мама. — Хлористым кальцием. Горький такой раствор.
А новое это лекарство придумали, рассказывала мама, не у нас, а где-то за границей, кажется, в Америке, но оно не поступает в больницы, где лечат больных туберкулезом. Его привозят какие-то люди. Не воры, нет, а спекулянты: они тоже где-то достают, привозят в наш город и продают тем, кто может купить.
— А кто не может купить?
— Кто не может, — тушевалась мама, не желая говорить всю правду, — ну, те… болеют.
Надо бы ей сказать — умирают, но она жалела меня, не хотела расстраивать трудной правдой. Но я же был уже не очень маленький и так догадывался.
В общем, пенициллин на рынке не продавали. А как его продавали, я так и не узнал. Без слов ясно только, что стоил он дорого, потому что доктор продал все, что продавалось, и добрался до рояля.
Нелишне тут заметить, что Николай Евлампиевич, как началась война, работал в госпитале, получал зарплату и карточки, что-то причиталось и его музыкальной жене, но иностранное лекарство и еда для женщины, больной туберкулезом, стоили очень дорого, слишком дорого, ужасно дорого.
Бабочки, как известно, не покупались. Про рояль было ясно без объяснений.
Бабушка говорила, что киевские беженки не устают жаловаться на доктора. Приходит, мол, каждый день к роялю и требует очистить его. Потом протирает фланелевой тряпкой и молча стоит. Будто перед гробом.
Что за люди такие бесцеремонные, хоть и беженцы? Да, именно так — как перед гробом! Если он рояль продаст, жена умрет, это же всякий школьник понимает.
Похоже, думы об этом совсем доконали Николая Евлампиевича. Бабушка рассказывала, что если раньше он сидел недвижно в своем углу, то теперь мечется. Молчит и ходит по верхней зале. Я себе
эго хорошо представлял: скрип оставшегося паркета, носверкиванье пенсне, когда он поворачивается к окнам, с протертыми локтями старая коричневая кофта…
Ходьба эта пугала и даже, наверное, угнетала бабушку, и вот в один прекрасный день она сказала ему, не сильно подумав:
— А вы дом продайте!
Он едва не упал.
Вечером бабушка распалялась перед нами:
— А что! Дом-то частный! И можно так продать, что комнатку-то за собой оставить! Все бы сразу свалилось! Все беды! Сколько за дом-то получить можно?
— Да кому ты продашь целый дом? — удивилась мама. — В войну-то?
— И он это же спросил! — кивнула моя бабуленция. — Но тут же оделся и куда-то ушел. Может, советоваться? Покупателя искать?
В новое затруднение обеих заботниц, похоже, поставил я своим простым вопросом:
— А рояль куда?
Они уставились на меня и ничего не ответили. Действительно, рояль не затолкаешь в какую-нибудь маленькую комнатушку, отгороженную фанерой. Ведь он половину нижнего зала занимает. Выходило, дом надо продавать с роялем.
Но взрослые просто об этом не думали!
Бабушка смешно и в лицах описывала покупателей, приходивших к доктору. Первый был в бурках и в серой каракулевой шапке пирожком, а пальто изнутри подбито стриженой овчиной — в таком не продует. Был он краснонос и крепок собой, видать, тыловая крыса из снабженцев, — бабушка описывала его с презрением и в душе решительно не желала, чтобы докторов дом перешел к этому типу.
Читать дальше