— Наверное, нельзя.
— Наверное! Городской. Без пилы в деревне ни как. Ну шмякнул он Огонька об забор, а Гиря ему по башке кулачищем. Забор не казенный тоже. Ватутихи забор. А у Ватутихи зять участковый. И посадили. Амелина я не жалею. Вчера отдает пилу, а у ней сломан зубец. Я ему говорю, Васька, как хочешь. Зачем мне такие подарки…
Машина ползла по пыльной ухабистой дороге. В кабине висел пылевой дурман. Першило в горле, на зубах поскрипывало. Инвалид как ни в чем не бывало покручивал баранку и продолжал рассказ, поглядывая на меня и нестерпимо взблескивая стальным зубом.
— Ты сам-то с Горы? Вижу я вас, воробушков. Ничего, ничего. Я на войне ноги лишился. Полагаешь, геройски в бою? Какой там! В самой лирической обстановке. Сорок четвертый, семнадцать лет. Только в Галицию прибыл. Автомат еще в смазке. Чего там воевать? Все знали, скоро победа. Вот, малый, не ходи за девками. Я, рыло картофельное, пошел. Приглянулась одна медсестренка. Стою с ней у медсанбата, соловьем разливаюсь. Ей тоже не больше. Ну, восемнадцать. До сих пор вспоминаю. Ну, уж почти про свиданье. Вдруг хрясь! Хряснуло что-то. Я говорю дальше, но вижу, не то. Тянет к земле. Вниз посмотрел, а стою на одной ноге. Другую начисто осколком срезало. Словом, как тот, оловянный. Читал? Я как внучке прочел, поразился. До чего писатели пишут! И точно тебе говорю, на одной стоял! Речь продолжал говорить. Прямо как у писателя! Про оловянного-то читал? Тот в печке сгорел. А я ничего, живу, на машине катаюсь…
Он высадил меня у деревенской почты, сверкнул зубом.
— Вниз иди. Как гнилой пруд увидишь, слева первый дом. Лупатовский.
«Запорожец» затарахтел и покатил по улице. Я огляделся. Деревня, конечно, победней, чем Сьяново. И совсем другие наличники. В Сьянове яркие, ажурные. Здесь некрашеные, грубоватые. Зато все зеленое, свежее. Даже площадь перед почтой не истоптана, посредине растет огромное дерево, пустившее от основания сразу несколько узловатых крепких стволов.
Лупатовский дом не отличался от других. Те же почерневшие бревна, те же нехитрые наличники. Только крыльцо, сделанное из теса в елочку, сверкало ярко-голубой краской. На первой ступеньке лежал грязно-белый пес и, положив морду на лапы, думал собачью думу.
Дверь растворилась. По ступеням сошел подросток в ватнике и сел рядом с псом. Это был Лупатов.
Он очень обрадовался моему появлению. В доме приняли гостеприимно. Мать Лупатова, бледная невзрачная женщина, все время улыбалась и предлагала поесть. Отец оказался не таким богатырем, как расписывал инвалид. Черный, приземистый, с головой, врос — шей в плечи, Лупатов-старший расхаживал вразвалку, говорил мало и всем видом показывал, что он человек серьезный и занятый. Когда-то он работал шофером, но права отобрали за пьянство, и теперь Лупатов слесарил и колхозных мастерских.
Места вокруг были чудесные. Если в Сьянове много простора, то здесь лесные дебри, укромные, потаенные уголки. Речонка Сыч то раздается шириной в сьяновскую Виру, то ужимается в малый ручеек. Мы уходили далеко по берегу, преодолевая завалы и глубокие затоны.
— Здесь есть бобры, — сказал Лупатов.
Он изменился. Похудел, стал бледный, сосредоточенный. Иногда после самого простого вопроса он замолкал и хмурил брови, подыскивая ответ. Мы брали отцовское ружье, но никогда не стреляли. Однажды я предложил Лупатову выпалить вверх. Просто так.
— Отец не велит, — коротко ответил Лупатов.
— А зачем мы берем? — удивился я.
Лупатов не ответил. Но я его понимал. С ружьем за плечом совсем другой вид. Черненый матовый ствол, коричневый гладкий приклад особенно красивы, когда ружье лежит в траве или стоит, прислоненное к дереву. Похоже на картину из жизни охотников. Я все время вспоминал Тургенева. Лупатов давал поносить ружье мне. Держась за шершавый плотный ремень, я воображал себя следопытом или зверобоем. В конце концов оказалось, что у нас не было даже патронов, только пустые бумажные гильзы.
Я рассказывал Лупатову многое из того, что прочитал. Романы Купера, Майн Рида и Стивенсона. Он слушал внимательно, переспрашивал и уточнял детали. Особенно ему нравилась «Одиссея капитана Блада». Он уверял, что, родись триста лет назад, он обязательно был бы капитаном пиратского брига.
— Чтобы не подчиняться, — объяснял он. — Чтобы сам по себе.
Я представлял Лупатова с черной повязкой на лбу, и, надо сказать, эта повязка ему шла. Но я возражал.
— Пираты пролили много крови. Возьми Моргана или Блейка. Сколько они убили людей! Я читал, что один Морган отправил на тот свет больше десяти тысяч ни в чем не повинных. Он загонял людей в трюм и топил корабль.
Читать дальше


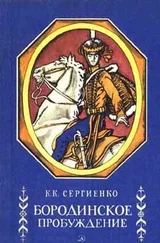


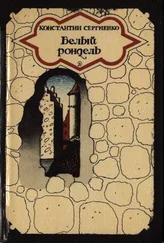


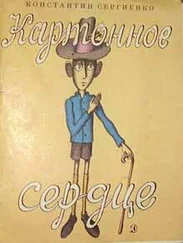
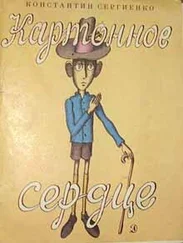
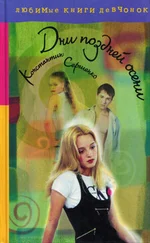
![Константин Сергиенко - До свидания, овраг [с иллюстрациями]](/books/410358/konstantin-sergienko-do-svidaniya-ovrag-s-illyustr-thumb.webp)
