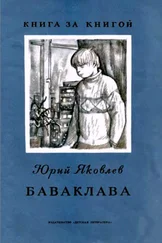— Я люблю антоновские яблоки, — отозвалась Таня.
— Я люблю синие сумерки.
— А я люблю зубров.
В их тихой перекличке не было особого смысла. Но каждая фраза начиналась словами «я люблю». Эти слова невольно стали важными, необходимыми. Они должны были звучать не умолкая. Потому что, если они погаснут, затеряются в хлопьях снега, жизнь остановится.
— Я люблю запах цветущей липы.
— Я люблю пение трамваев на повороте.
Их позывные начинались словами «я люблю», потому что весь мир был для них любимым.
— Я люблю росу на листьях, — говорил он.
— А я люблю морских львов, — откликалась она.
И вдруг он остановился, посмотрел на Таню и в том же ритме произнес:
— А я люблю… рыжих.
Эти слова вырвались наружу помимо его воли. Сами по себе. Таня испуганно посмотрела ему в глаза. Они были прищурены, а на ресницах держалось несколько снежинок, и на зеленом кольце Сатурна тоже лежал снег. Таня испугалась его голоса. Испугалась белого снежного кокона. Испугалась себя. Она кинулась бежать. Нет, нет, она убегала не от него. Она спасалась от самой себя. Она бежала долго. По улице, через площадь, не разбирая дороги. Она очутилась на набережной и остановилась. А сердце еще продолжало бежать. Она слышала его удары-шаги.
И вдруг Таня зажмурилась и засмеялась от счастья.
…Эй, звезды, держитесь крепко за небо! Как разбегусь, как подпрыгну, как достану самую крупную! А потом буду перебрасывать горячую звезду с ладони на ладонь, как печеную картошку, вынутую из костра.
Эй, рыбы, прячьтесь поскорее в темных водорослях! Я сейчас опаснее самой зубастой щуки. Могу вскочить на перила моста, и прыгнуть в глубокую воду, и ухватить за хвост любую из вас, какая придется по вкусу.
Берегитесь, желтоглазые машины, и отходящие поезда, и витрины, освещенные, как сцена театра, и деревья, и фонарные столбы, и старушки, седые от мудрости. Я могу сейчас все перевернуть, перепутать, превратить в сплошной веселый хаос. Я не пьяная и не сошла с ума. Я, кажется, счастливая, а когда человек счастлив, он распоряжается рыбами, звездами, поездами и старушками. Всем!
Мы редко бываем в цирке. Зато когда уже переступим цирковой порог, то как бы переносимся на веселую планету, где забываются земные заботы, горести и начинается удивительная жизнь. В цирке легко оживают забытые ощущения детства: начинаешь верить во все бутафорские чудеса, переживаешь за жонглера — только бы он не уронил тарелку! — и ни на минуту не сомневаешься, что звери знают язык людей и не разговаривают только потому, что от природы молчаливы.
Раньше говорили — бродячий цирк. Теперь нашли новое слово — цирковой конвейер. Этот конвейер проходит через всю страну, движется из города в город. Вечные переезды. Только устроишься, обживешься, привяжешься к людям, и снова — прощай!
Цирк всегда бродячий, как его ни называй. Вагоны, самолеты, машины — те же цирковые фургоны. Потомкам шутов и гладиаторов снятся старые сны…
В цирк и не следует ходить часто. Чтобы он не потускнел, не стал обыденным, всегда оставался прыжком на веселую планету. И чтобы хоть изредка чувствовать, много ли крупиц детства удалось сохранить в сердце.
1
В небольшом двухэтажном городке шло цирковое представление. Медные трубы исполняли веселый марш-галоп, трескучий горох барабанов рассыпался в стороны. Смех заглушал раскаты хлопков. От раскаленных юпитеров тянуло печным жаром.
Велосипед встал на дыбы, и клоун помчался на одном колесе. А потом сверкающие никелем части полетели в разные стороны, и велосипеда не стало. Остались колесо и человек, оседлавший его. Колесо мчалось, подпрыгивало, останавливалось. Оно хотело сбросить навязчивого седока, а он смеялся над колесом.
И зрители смеялись. Они не замечали жары, примирились с духотой. Не чувствовали локтей своих соседей. Они вместе с клоуном катились на одном колесе — на большом красном колесе циркового манежа… Но главное — они не знали и не могли знать, что через несколько часов начнется война, неожиданная, как многие войны, и кровопролитная, как ни одна из войн.
Цирк «Шапито» — это огромный шатер, который разбили на базарной площади. Он выкроен и сшит из грубого корабельного паруса. Парус старый, выбелен дождями, с большими квадратными заплатами. Когда поднимается пыльный городской ветер, парус вздрагивает, рвется со строп.
Интересно во время представления походить вокруг шатра и прислушаться к его жизни. Гремит музыка. Доносятся возгласы. Рассыпаются хлопки. Такой шум, будто весь город уместился под сводами шатра. И вдруг устанавливается чистая, без единого пятнышка тишина. Цирк как бы пустеет. Это значит — кто-то идет по канату, или держит на голове многоэтажный баланс, или совершает прыжок с трапеции на трапецию.
Читать дальше
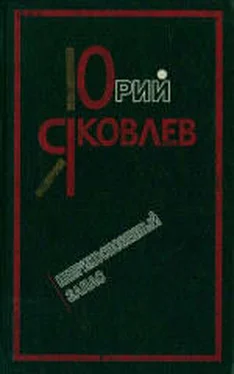

![Юрий Яковлев - Мой верный шмель [Рассказы]](/books/26879/yurij-yakovlev-moj-vernyj-shmel-rasskazy-thumb.webp)