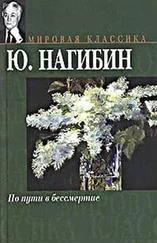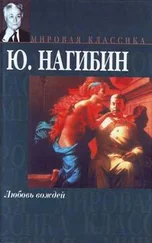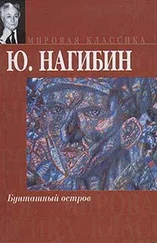К чему я так подробно рассказываю о своих отношениях с другим мальчиком? Митина вздорность, перепады настроения, чувствительные разговоры и всегдашняя готовность к ссоре, хотя бы ради сладости примирения, стали казаться мне непременной принадлежностью дружбы. Сблизившись с Павликом, я долго не понимал, что нашел иную, настоящую дружбу. Мне казалось, что я просто покровительствую робкому чужаку. Поначалу так оно, в известной мере, и было. Павлик недавно переехал в наш дом и ни с кем не свел приятельства, он был из тех несчастных ребятишек, которых выгуливали в Лазаревском и церковном садах.
Этой строгостью исчерпалась до дна родительская забота о Павлике. В последующие годы никогда я не видел, чтобы Павлику что-либо запрещалось или навязывалось. Он пользовался полной самостоятельностью. Родительской опеке он предоставил своего младшего брата, а себя воспитывал сам. Я вовсе не шучу, так оно было на самом деле. Павлика любили в семье, и он любил родителей, но отказывал им в праве распоряжаться собой, своими интересами, распорядком дня, знакомствами, привязанностями и перемещением в пространстве. И тут он был куда свободнее меня, опутанного домашними табу. Тем не менее первую скрипку в наших отношениях играл я. И не только потому, что был местным старожилом. Мое преимущество заключалось в том, что я не догадывался о нашей дружбе. По-прежнему я считал своим лучшим другом Митю Гребенникова. Даже удивительно, как ловко заставлял он меня играть в спектакле под названием «Святая дружба». Ему нравилось ходить со мной в обнимку по школьным коридорам и фотографироваться вместе на Чистых прудах. Я смутно подозревал, что Митя выгадывает на этом какие-то малости: в школе, что там ни говори, ему льстила дружба с «товарищем санитаром», а под прицелом Чистопрудного «пушкаря» он наслаждался превосходством своей тонкой девичьей красоты над моей скуластой, широконосой заурядностью. Пока фотограф колдовал под черной тряпкой, Чистопрудные кумушки наперебой восторгались Митиными глазами — «черносливом», прической с противным названием «буби-копф» и кокетливым черным бантом на груди. «Девочка, ну просто девочка!» — захлебывались они, и ему, дураку, это льстило!
Ко всему еще он оказался ябедой. Однажды классная руководительница велела мне остаться после занятий и учинила грандиозный разнос за игру в деньги. Лишь раз в жизни, в дошкольные времена, играл я в расшибалку, быстро продул семь копеек наличными и еще рубль в долг. Поверив чистосердечному раскаянию, дед помог мне вернуть долг чести, на том и кончилось мое знакомство с азартными играми.
Прижатый в угол, Митя сознался в доносе. Он оговорил меня для моей же пользы, боясь, что дурные наклонности вновь пробудятся во мне и погубят мою столь счастливо начавшуюся карьеру — он имел в виду пост санитара. А затем со слезами в глазах Митя требовал вернуть ему былое доверие ради святой дружбы, что «больше нас самих», и пытался влепить мне иудин поцелуй. Все это выглядело фальшиво, скверно, непорядочно, тем не менее я еще года два, если не больше, участвовал в недостойном фарсе, пока вдруг не понял, что у настоящей дружбы совсем иной адрес. Митя все же был привязан ко мне и тяжело переживал разрыв…
И вот пришел в мою жизнь Павлик. И у дворовых и у школьных ребят навсегда засело в памяти, что в нашей паре я был ведущим, а Павлик ведомым. Недоброжелатели считали, что Павлик — какой-то принудительный ассортимент ко мне. Это осталось с той поры, когда я «вводил Павлика в свет» — сперва во дворе, потом в школе, — он перешел в наш класс и вновь оказался в положении чужака. И тут действительно дело было поставлено строго: меня нельзя было пригласить на день рождения, Новый год или другой праздник, не пригласив Павлика. Я покинул футбольную дворовую команду, где считался лучшим бомбардиром, когда Павлика отказались взять хотя бы запасным, и вернулся лишь вместе с ним… Так возникла иллюзия нашего неравенства, которую не могла рассеять вся последующая жизнь. Общественное мнение не склонно к перемене даже перед лицом очевидности.
На самом деле ни один из нас не зависел от другого, но душевное превосходство было на стороне Павлика. Его нравственный кодекс был строже и чище моего. Долгое приятельство с Митей не могло пройти бесследно, я привык к известному моральному соглашательству. Прощение предательства немногим отличается от самого предательства. Павлик не понимал сделок с совестью, тут он становился беспощаден. Нам было лет по четырнадцати, когда я на своей шкуре испытал, каким непримиримым может быть мягкий, покладистый Павлик.
Читать дальше