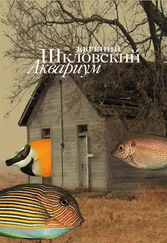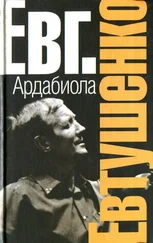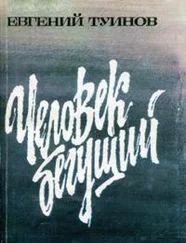От этой ее маленькой неуклюжей лжи, кажется, стало легче, но тут же я опять вспомнил о своих синих трусах и о том, что ни за что не буду раздеваться.
– А что ты не загораешь? – спросила Ира, растягиваясь на коврике и уютно, расслабленно, по-кошачьи потягиваясь на солнце.
Я молча скинул рубашку и тоже лег рядом, стараясь не коснуться плечом ее плеча.
– Ты на меня не обиделся? – неожиданно ласково спросила она и положила свою холодную ладошку мне на ладонь.
Я даже вздрогнул от прикосновения.
– За что обиделся? – сделал я вид, что удивлен ее вопросом. – Нет.
– Правильно, – согласилась Ира и села на коврике. – Один мой знакомый мальчик сказал, что на меня нельзя обижаться.
Снова она про этого знакомого мальчика! Какой он был, интересно? Наверное, старше меня, наверное, уже брился, и, наверное, он чувствовал себя куда увереннее рядом с Ирой.
– Лодочки, – сказала она. – Вот бы покататься!
Я тоже поднялся и сел, как будто затем, чтобы посмотреть на эти лодочки, которые и так раньше ее заметил. Просто у меня не было с собой денег, чтобы заплатить за прокат, и я не мог покатать Иру на лодке. А у бабушки просить было неловко. Но мне почему-то не хотелось в этом признаваться. Наверное, потому, что я не желал уступать ни в чем ее знакомому мальчику.
– У тебя уже есть паспорт? – спросила Ира, и я понял, куда она клонит, – на лодочной станции без паспорта лодок не выдавали.
– Завтра приду с паспортом, и мы обязательно покатаемся, – сказал я, стараясь подражать уверенности, может быть придуманного мной, ее знакомого мальчика, и снова лег.
Я думал, она обрадуется, но Ира промолчала.
Домой мы возвращались, когда солнце уже касалось густой листвы деревьев на том берегу. Откуда-то налетели мошки, и они кружили, беззвучно роились в последних, уже нежарких солнечных лучах. От воды тянуло прохладой, и с реки запахло тиной и прелыми водорослями. Голоса купальщиков сделались громче и доносились издалека, ничуть не меняясь, будто из-за соседних лопухов.
Ира рассказывала, как они жили полтора года в Пензе, что у них был за класс в школе и какие учителя. Я и сам часто ловил себя на том, что, не успев с кем-нибудь толком познакомиться, ни с того ни с сего вдруг начинал рассказывать о школе, об одноклассниках. Тут был, наверное, какой-то закон в том, что именно об этом тянуло рассказать в первую очередь.
Ира вспоминала какое-то дачное местечко под Пензой с южным названием Ахуны, озеро, реку и снова, снова того знакомого мальчика. Я как-то не заметил, как ее узенькая холодная ладошка оказалась в моей ладони. Мы шли вдоль заборов, и ленивые собаки, не успев оклематься от дневной жары, нехотя поднимали понурые головы, тоненько позвякивая цепями, и что-то рассеянно тявкали нам вслед.
У своей калитки Ира остановилась, отобрала у меня сумочку и неожиданно замолчала. Только сейчас я заметил, что у нее очень длинные, выгоревшие, почти белые ресницы. Какой-то она стала тихой, кроткой в подступающих сумерках. Лишь зеленые глаза по-прежнему озорно светились, даже в тени сиреневого куста.
– Приходи завтра, – попросила она и, встав на цыпочки, поцеловала меня в щеку.
Я так и знал, что будет что-нибудь вроде этого, но никак не ожидал, что это будет так просто и неожиданно. Ира была уже на крыльце и вытирала ноги о сырую тряпку у открытой, занавешенной тюлем двери.
– Приходи, – шепнула она мне ласково и тут же громко крикнула в дверь: – Это я, мамочка! С пляжа…
Бабушка ни о чем таком не спрашивала меня, будто и не знала, с кем я только что расстался. Она напоила меня чаем с картофельными оладьями, которые почему-то звала тошнотиками. А когда я собрался уходить, сказала вдруг уверенно:
– Завтра ни свет ни заря прибежишь. Я знаю…
Что она знала? Я не стал спрашивать.
Маркис путался в комнате под ногами и недовольно косился на звонких мух, бьющихся в меркнущее оконце.
– Что-то в пояснице крутит, – сказала бабушка, провожая меня до калитки. – Никак, к дождю?
Но назавтра дождя не было. Его не было всю эту беспокойную счастливую неделю. Город изнемогал уже от жары. Поливалки так и носились по бабушкиной улице за водой и обратно. А для меня все эти дни слились в один долгий, томительный день, иногда мгновенно меняющийся от острого счастливого забытья, стремительного, взрывного, до кажущейся неутешной пронзительной душевной боли, когда я словно физически начинал ощущать свою разлаженную, униженную очередной выходкой Иры душу. Тогда, наверное, впервые я узнал, что душа может болеть, так болеть, что никакая телесная боль несравнима с этой болью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу