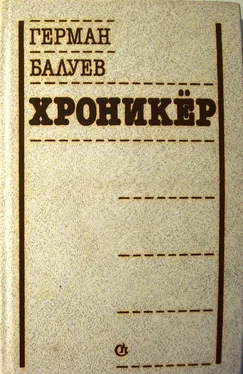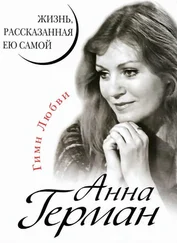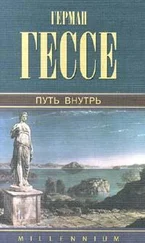Я поймал себя на том, что неотрывно смотрю на Курулина, на его старушечье, как бы вогнутое внутрь лицо.
Курулин покосился на солидно посапывающего рядом с ним Федю.
— Что скажешь?.. Наука!
Федор поднял кулак.
— Слава флотским и нам, чертям пароходским! — сказал он вполне серьезно.
Мы выходили из мелководья. Впереди дымился шторм. Над белесым паром несущейся водяной пыли стояли блекло-голубые горы, то и дело затушевываясь смерчами пены и брызг.
— Завидую я Курулину, — с выражением своей обычной внутренней сосредоточенности сказал Федор.
Я развеселился.
— Объект зависти ты выбрал исключительно точно! И главное — удивительно своевременно!
У Федора была поразительная способность все несущественное как бы выносить за скобки. Всю, как бы это сказать, демагогическую сторону нашей жизни он игнорировал, пренебрегал ею. Так он не заметил мою статью, громогласного Самсонова, нервозность обстановки, пароксизмы Курулина. Он смотрел только в суть. А сутью было: Курулин взялся делать «Мираж» и сделал! А то, что теперь Курулина, возможно, будут снимать, — это демагогические финтифлюшки, которые серьезный человек просто не должен принимать во внимание.
— И тебе тоже завидую, — сказал Федор. — Решил и сделал. Только так и можно!
Явно он полагал, что я выносил замысел какого-то грандиозного, необходимого человечеству произведения и ради его осуществления развалил свою накатанную, но засоренную несущественными делами жизнь. Я почувствовал острый приступ тоски.
— И мне тоже ты завидуешь очень правильно! — сказал я язвительно.
Федор на мою веселость не реагировал. Не то чтобы у него не было чувства юмора. Но наш юмор как бы не удовлетворял его. И это, я чувствовал, он тоже выносит за скобки.
— Ты что, совсем ослеп, не видишь, как люди реагируют на так называемую победу Курулина?! — не сдержался я.
— Люди, они и есть люди, — помедлив, уронил Федор.
— Подходец, а?! Так ведь, милый! — взорвался я. — Как раз эти самые люди и определяют...
— Определить должен сам! —сказал Федор. — То, к чему ты прилагаешь усилия, на пользу оно этим же самым людям? Или во вред? Вот единственный критерий. — Вернувшись на «Мираже» в затон, мы шли с Федором к пристани. И он не то что делился со мной своими соображениями, он обосновывал принятое решение. Вот только, что он за решение принял, этого я не знал. Однако было очевидно, что поворотное решение им принято, и он, наконец, спокоен, отчетлив и тверд. — И что погнало меня в затон?! — с благоговейным удивлением вопросил себя Федор. — И место, видимо, необходимо, чтобы решиться. И чья-то решимость, чтобы внутренне на нее опереться.
Я покосился на него сбоку. Его фигура, похожая на застарелое, в узлах и наростах, корневище, пугающие своей правдивостью васильковые глазки подсказывали, что с этим субъектом опасно шутить.
— Чего надумал-то? — спросил я сердито.
— Закончить свою теорию, — сказал Федя. Он помедлил и улыбнулся мне своей застенчивой девичьей улыбкой.
Ну, Федя! Закончить свою теорию он решил еще лет двадцать назад! Чего это он задумал? На что его мог подвигнуть сам терпящий катастрофу Курулин? Что-то мне стало не по себе.
— Жизнь почти прошла, и все в ней было, кроме самой жизни, — сказал Федор и взглянул на меня вопросительно.
Я промолчал, и он внутренне раздражился.
— Нельзя просто делать и делать! Приходит время, и надо, даже жертвуя всем остальным, превратить то, что делаешь, в окончательное. И отбросить!.. Отдать!.. Освободиться!
Таким взъерошенным Федора я еще не видел.
Мы вышли на бугор, под которым скрипела пристань. Берегом, пригнувшись от ветра, спешила к пристани Ольга. Ветер распустил ее волосы, как черное знамя.
— Как с ней?
— Хорошо, — сказал Федор. — Она меня не любит.
Он с портфелем шагнул ей навстречу. Ольга болезненно улыбнулась, обошла его и остановилась передо мной. Тонкие. ноздри ее вздулись, а глаза смотрели в упор, расширившись.
— А хроники у вас получались лучше, — сказала она, стараясь быть насмешливой. Но губы ее тряслись. — От них исходило ощущение высоты. А тут — стыда!
«Тут» — очевидно, она имела в виду мою статью.
— Взяли и все растоптали! — сказала она жалобно. Взяла меня за пуговицу и потянула к себе.
— Похолодало-то, а? — вскричал я, потирая руки и весело взглядывая то на Ольгу, то на посапывающего в заинтересованной близости от нас Федора.
С болью и облегчением я почувствовал, что тоненькая живая нить, связывающая нас с Ольгой, оборвалась. И что передо мной стоит чужой, холодный и враждебный мне человек.
Читать дальше