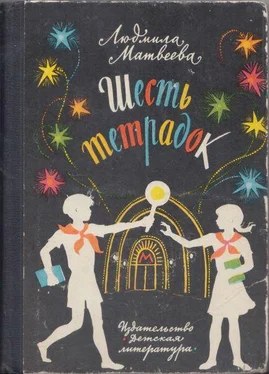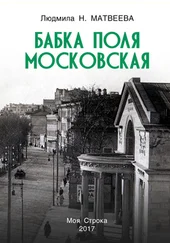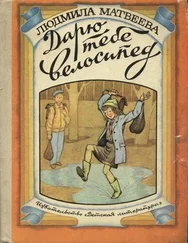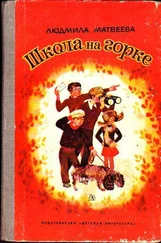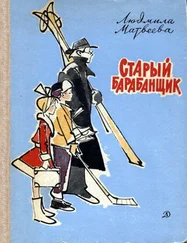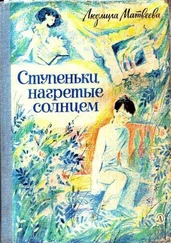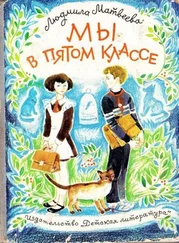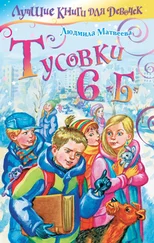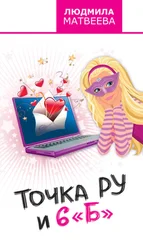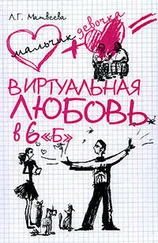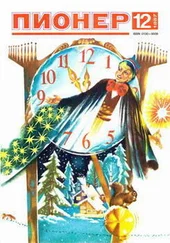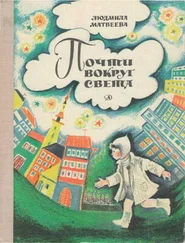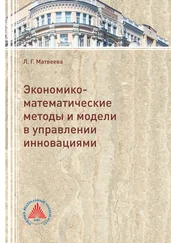Мишкины неровные буквы доезжают до края листка, и строчки загибаются вниз. Мишке, как всегда, не хватает простора.
«Я узнал про инженера Самойлова, расскажу потом. И ещё одну вещь — потом. А здесь — про трамвай, пусть у нас история московского транспорта идёт по порядку. Трамвай. В самом конце девятнадцатого века пошёл, прогремел по городу первый трамвай. Это было чудо — конка без лошадей. Вагон на месте, рельсы на месте, а лошадок нет. Все удивлялись и не верили своим глазам. За пять лет трамвайная линия протянулась всего на пять километров. А скорость у трамвая была как у извозчика: шесть километров в час. Почему? Потому что улицы были кривые и узкие, не разгонишься».
Нарисован трамвай, он изгибается, как гусеница, на узкой улочке, застроенной домами. И написано: «Рисовал Борис».
А это кто написал уверенной рукой?
«Первый автобус появился в Москве в тысяча девятьсот двадцать четвёртом году. Теперь, в тридцать четвёртом, их уже сто восемьдесят».
Учительский почерк Антонины Васильевны:
«Саша Пучков молодец».
Что же, в самом деле, старался человек не меньше других, что-то прочитал, что-то узнал и написал.
И опять Мишкины строчки-закорючки:
«Из старого путеводителя: «Пути сообщения в Москве, как и во всех русских городах, отличаются большим неудобством: дурные мостовые и плохие экипажи. Возят московские извозчики за небольшую плату, но сначала запрашивают невероятные цены, а потому с ними необходимо торговаться».
Дальше Мишка приписал уже от себя:
«Интересно. А если я не умею торговаться? Или не люблю?»
«Ходи пешком», — ехидно советует Пучков.
Круглые весёлые буквы. Это Катя:
«Почему в трамваях так тесно? Потому что у нас каждый трамвайный вагон перевозит семьсот тысяч пассажиров в год. В Берлине в три раза меньше. В Вене — ещё меньше — сто восемьдесят тысяч».
Леденчик не вытерпел:
«Когда же про метро? Конки, сидейки, скамейки».
Антонина Васильевна:
«Спокойно, Лёня. Это — история. Не было бы сидейки, не было бы и конки, и трамвая, и подземного трамвая — метро».
А это опять неторопливо и спокойно рассказывает Катя:
«Первая шахта метро была заложена в тридцать первом году, в день четырнадцатой годовщины Октября. Это было в Сокольниках. Небольшая группа людей торжественно открыла первую шахту первого метро. Здесь начинался опытный участок подземной дороги. Работали несколько человек лопатами и мотыгами. Я прочитала об этом в газете «Проходчик». Газету мне подарил Мишка».
Пишет учительница:
«Значит, с той шахты и началось метро? Вопрос ко всем вам: с чего началось метро?»
«Я знаю», — пишет торопливая рука Леденчика, и чернила разбрызгиваются по странице.
«Знаешь — не хвались, а напиши», — отвечает Танин почерк.
И сбоку корявые буквы:
«Мишка — дурак».
«Не ссорьтесь и не ругайтесь!» — написала учительница.
Разговор в красном уголке
После уроков Мишка спрашивает:
— Антонина Васильевна, можно, я на выходной возьму летопись к себе домой? Я хочу написать про инженера Самойлова.
— Возьми, конечно.
Бегут по тетрадке буквы, загибаются строчки вниз. Мишке не хватает простора.
Мишка с Борисом пришли к инженеру Самойлову прямо на шахту.
Они сидят в красном уголке, длинный стол накрыт кумачом. Напротив Мишки и Бориса небольшой человек с худым лицом, светлые глаза смотрят на мальчишек весело. Может быть, ему смешно, что его расспрашивают, как будто он какая-нибудь знаменитость.
А может быть, у инженера Самойлова весёлый нрав, потому и глаза смеются.
Он барабанит пальцами по столу, но бесшумно, потому что на столе постелен кумач — красная материя, как во всех красных уголках.
— Что же вам рассказать? Как я пришёл на метро? Я — горный инженер.
— Горный? — спрашивает Мишка. — Значит, на горах работали?
— Как раз наоборот. Чаще всего под землёй.
— Почему? — удивляются Мишка и Борис.
— Потому что горный инженер — это специалист по разработке земных недр, земной глубины. Разные бывают работы: добыча полезных ископаемых, строительство тоннелей. Я добывал золото.
— Настоящее золото? Как у Джека Лондона?
— Настоящее. Только у Джека Лондона они каждый для себя искали золото. А у нас — промышленная добыча, план.
Инженер рассказывает, и перед Мишкиными глазами встаёт картина.
Север. Метёт пурга. Домики низкие, чтобы лавиной не снесло, их врезают в землю. Геологи сказали: «Здесь есть золото». А бригада Самойлова ищет, ищет, а найти не может. В одном месте долбят мёрзлую землю, в другом, в третьем — пусто. Не даётся в руки, как будто бегает от людей.
Читать дальше