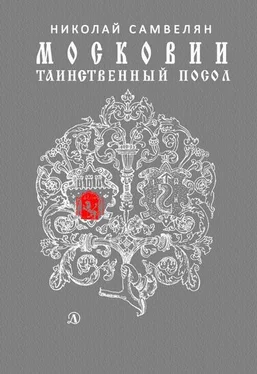— А они меня любят? — обиделся Гринь и ушел. — Они меня тоже не любят! — сказал он уже за дверью, в коридоре. — Мир так устроен: никто никому не нужен и никто никого не любит! Каждый для себя живет!
Печатник вздохнул и сел приводить в порядок бумаги и счета.
Теперь и Курбского нет. Свое отжил. Сказал все, что успел сказать. Точка поставлена. И за этой точкой ничего уже нет. Оттуда уже не крикнешь: «Вы меня неправильно поняли! Сейчас я все объясню…» По слухам, ставшим известными в Кракове, отходит от дел и главный враг Курбского — царь Иван. Он затворился и проводит время в молитвах. Да иногда допускает к себе красавца Бориса Годунова — поиграть в шахматы. Молодой Годунов хитер. И в шахматах мастак. Он умудряется, почти выиграв партию, так ловко подсунуть под удар свою главную фигуру, что тот, кто не знает характера Бориса, может подумать, что он и вправду зевнул, проглядел сильный ход соперника. Царь хватал нарочно поставленную под удар фигуру и радовался, как ребенок. Выиграл! Но как-то раз догадался, что им играют. Схватил доску и швырнул ее в голову Борису. Даже бровь рассек. Так и остался у Годунова, будущего царя, шрам на левой брови. Может быть, так тяжело подействовали неудачи на царя в последней войне? Или же устал бороться с непокорной и трудной для правителя страной… Вчерашние опричники сами стали боярами. И не пора ли заводить новых опричников, чтобы прибрать к рукам вчерашних?
Царю тоже пора уходить из мира. Государство он объединил, но ценой какой крови! Да и Новгород погубил. К Балтике вырваться не удалось. И потомки скажут об этом царе слова гневные и справедливые. Они обвинят его в том, что он подорвал оборонную мощь государства. И потому станут возможными польское нашествие и времена Лжедмитриев.
Печатник понимал, что суд потомков будет строгим и для князя Константина Острожского, лицемерного, мстительного, хитрого человека, который надеялся стать главной для всей Руси фигурой, но не стал ничем. Он так и останется в памяти поколений посредственным полководцем, недальновидным политиком.
Геворк убит. Ходкевич умер. Сын в заботах о собственной судьбе. Лаврин Пилипович стар…
И в такие минуты казалось Федорову, что он безнадежно одинок. Вот только костел иезуитским оком заглядывает в окно. Что ж, пусть глядит. Секретов нет.
Федоров писал. В этой книге печатник хотел рассказать о двух художниках — новгородце Феофане Греке и об Андрее Рублеве. Две идеи, два начала… Мощный, неистовый Феофан и нежный Андрей Рублев. Если оба начала станут органичными для русской культуры и если эта культура будет доступна большинству народа, у Руси появятся свои Данте, Петрарка и Микеланджело…
Федоров писал и о своей жизни, о городе Львове, о Грозном и об Острожском. «Нас с тобой будет судить божий суд!» — сказал князь Константин на прощанье.
«Божий так божий, — думал печатник. — Но не исключено, что и людской». И тогда перед судьями легла бы эта книга, которую он писал и для тех, кто нынче живет на земле, и для тех, кто придет позднее.
Костел заглядывает в окна? Пусть заглядывает.
В один из таких дней к печатнику прибыли с оказией два письма. Одно — от Вышенского, второе — от Дионисия из Острога.
Вышенский в момент написания письма был, наверное, нервен или зол. Буквы прыгали по бумаге, неслись галопом, сбивали строй. Вышенский сообщал, что часто возвращается в мыслях к тем спорам, которые они вели в Остроге, и считает своим долгом теперь написать отдельное послание Федорову о том, что споры между православными, между людьми греческого закона и веры, сейчас неуместны. Время для открытия большого числа академий, в том числе академий народных, еще не пришло. Нужны церкви, а не академии. И пусть народ получает грамоту из рук церкви и запоминает сведения, сообщенные ему с амвона. Это будет укреплять единомыслие народное. И тогда все будут как один человек.
Печатник улыбнулся: Вышенский неисправим. Фанатик. Для него все начинается и кончается церковью.
Письмо Дионисия было совершенно иным. И о нем — отдельно.
В важных делах и дьявол не лишний
Графиня Челуховская не считала себя женщиной робкой или слабой. Но сейчас темная дорога — ни двора окрест, ни огонька — пугала. И на тугом ветру как-то уж очень тревожно, глухо шумел лес. Впереди и сзади кареты ехали вооруженные слуги. Они получали отличное жалованье, готовы были в любую минуту пустить в ход клинки и пистолеты, защищать свою хозяйку с той отчаянной решимостью, с какой вряд ли защищали собственные семьи. Служба есть служба, особенно — щедро оплачиваемая.
Читать дальше