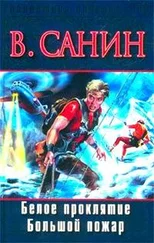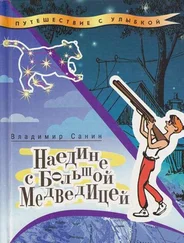А через несколько часов перед строем полка расстреливали Дорошенко.
Иногда я вспоминал его и радовался, что этот отвратительный парень ушел из моей жизни. Я встречал на фронте ребят, бывших когда-то уголовниками: они частично сохранили свой жаргон, блатные ухватки, любили петь «перебиты, поломаны крылья, тихой болью всю душу свело» и «как живут филоны в лагерях», но в большинстве своем снова стали людьми. Лишь после смерти Заморыша я узнал, что до армии, точнее до тюрьмы, он был вокзальным вором.
А другие – таких было очень немного, но они были – так и не, вернулись к честной жизни. Все их презирали и рано или поздно выбрасывали из своей среды,
Таким был и остался до конца Дорошенко.
Оказавшись в штрафной роте, он счастливо отделался «малой кровью»: получил осколочек в мякоть ноги и по закону считался искупившим свою вину. В полк он пришел из медсанбата всего несколько дней назад, и я увидел его только тогда, когда нас выстроили по тревоге.
Перед строем выступил подполковник Локтев.
– Товарищи!– восклицал он.– Среди нас есть подлец, запятнавший знамя нашего полка! Этот негодяй ограбил старика и его жену, представителей братского народа, освобожденного Советской Армией! Они видели, как грабитель бежал в расположение полка. Смир-но!
Четверо – Локтев, принявший командование полком, майор, седоватый подполковник из военного трибунала и совсем дряхлый старик чех, явно смущенный тем, что происходит, начали обходить ряды. Время от времени чех останавливался и умоляюще говорил что-то сопровождавшим, но Локтев отрицательно качал головой и продолжал, бережно держа под руку, вести старика вдоль рядов.
Мы стояли по стойке «смирно», нам было безумно стыдно.
Дорошенко вытолкнули из рядов сами солдаты, увидевшие, как он пытается выбросить из кармана и придавить ногой древние медные часы-луковицу и позолоченное обручальное кольцо.
Через пять минут Дорошенко расстреляли перед строем, и не было ни одного человека, который бы о нем пожалел.
И меньше всего – мы. Из-за этого мерзавца нас оторвали от постели умирающего Заморыша. Жук, который впервые нарушил свой воинский долг и отказался идти на построение, рассказал, что Саша на короткое время пришел в сознание и просил не поминать его лихом. Теперь он снова впал в беспамятство, и хирург, повидавший за войну тысячи смертей, честно предупредил, что вот-вот начнется агония.
Саша умирал трудно, и почерневший от горя Жук не спускал с него глаз. С ним вместе Жук провоевал три года, и хотя был старше двадцатилетнего Заморыша всего на семь лет, относился к нему как отец: строго отчитывал за проступки, даже наказывал, но во всех его репликах, обращенных к маленькому другу, сквозили гордость и неприсущая Жуку теплота. Оба они были одиноки и, как часто бывало на фронте, предполагали после демобилизации поселиться вместе.
И теперь Заморыш умирал – из-за непоправимой ошибки, допущенной его старшим другом.
Мы хоронили его под вечер, на деревенской площади. Вокруг, обнажив головы, стояли чехи. Локтев произнес короткое прощальное слово и бережно прикрыл краем знамени обострившееся лицо прославленного разведчика Александра Дворикова, по прозвищу Заморыш.

Навсегда в моей памяти осталась последняя ночь войны: мы сидим в палатке вокруг врытого в землю стола, заставленного бутылками трофейного сухого вина, Музыкант бряцает на гитаре, а черный, как земля, Жук пьет, не пьянея, стакан за стаканом и с невыразимой печалью напевает, качая тяжелой головой:
Не для меня придет весна-а-а,
Не для-я меня Дон разольется,
И сердце радостно забье-ется
Восторгом чувств – не для ме-еня…
ВСЕ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ
Теперь, когда война закончилась, у солдат заныли старые, незалеченные раны. Никто не жаловался, пока шли бои, где каждый шаг мог оказаться последним и для здорового и для трижды лежавшего в госпиталях – не угадаешь.
А нынче, когда изнурительные походы остались позади и смерть больше не летала над головой, когда можно было часами в истоме валяться на берегу речки или в лесной тени, обнаружилось, что солдаты устали. Они прощупывали под багровыми шрамами не извлеченные в госпиталях осколки, все чаще вспоминали о ревматизме, подхваченном во фронтовой слякоти, прислушивались к неровным толчкам перетруженного сердца и без конца говорили о женах, ребятишках и семейном уюте. Минометчики с тревогой думали о том, будет ли им послушен, как прежде, комбайн, автоматчики уже видели себя у токарных и фрезерных станков – словом, душою солдаты были дома, по которому безмерно истосковались.
Читать дальше