- Отчего же? - соглашается толстяк, но тотчас спохватился - этот человечек с лисьей физиономией и подлым выражением опасен своей болтливостью - и замахал руками. - Ах я дурень! Вот дырявая память! Ваша милость извинит меня, я должен зайти к больному родственнику. Жаль, а то бы я с удовольствием осушил бокал-другой!
Человек-лиса смотрит в ту сторону, в которую толстяк махнул рукой, и подхватывает:
- Так вам за реку? В Триану? Прекрасно! Мне туда же...
- В какую там Триану, - с трудом выговаривает толстяк, в мозгу его от страха уже черти пляшут - он не знает, как ему избавиться от этой пиявки, от этого вампира в образе ищейки... Чтоб скрыть свою растерянность, он принимается зажигать фонарь, но рука его дрожит, и кресало не сразу попадает по кремню. - Мне как раз в обратную сторону. Сожалею, что буду лишен вашего общества. Но мне пора - тороплюсь... Бог с вами, милостивый сеньор.
Толстяк ринулся со ступенек, как отчаявшийся - в пропасть, он проталкивается, продирается сквозь толпу, но увы - тощий призрак легко скользит в толчее по пятам своей жертвы, не упуская из виду огонек ее фонаря.
Ночные сторожа трубят четвертый час после заката, солдаты запирают на ночь улицы тяжелыми цепями.
Мигель, распростертый на своем ложе, смотрит в лепной потолок - на нем рельефно изображены плоды андалузской земли.
Воображение мальчика превращает густое переплетение виноградных лоз во вздутые жилы на телах пытаемых; виноградные гроздья - это куча вырванных человеческих глаз, дыня - череп, с которого содрали кожу, а хвостик дыни гвоздь, забитый в череп... В окна вливается воздух, горячий, как кипящее масло. Тени мертвых парят над Мигелем, реют во мраке, и нет им ни утешения, ни надежды. Дымится лужа крови, и языки пламени лижут тела грешников.
Стонет Мигель, всхлипывает, и зубы его стучат в лихорадке.
Лекарь поставил пиявки на виски мальчика.
- Что сделать мне, господи, чтобы спастись от этих мук? - рыдает Мигель.
Плач приносит ему облегчение и сон.
Мать увозит сына в Маньяру.
- Матушка, я повинуюсь тебе! - обещает он, судорожно стискивая руку матери. Он бледен от волнения, от неистовой силы решения. - Буду служить только богу! Клянусь тебе - сделаюсь священником, слугою божиим!
Мальчик, истомленный, опускается на сиденье, карета с гербом Маньяра, покачиваясь, катится к северу по королевской дороге, а донья Херонима тайком утирает радостные слезы.
* * *
- Обручаюсь вам, донья Бланка, и подтверждаю торжественной клятвой, что, кроме бога и короля, принадлежу и до гроба буду принадлежать только вам, - говорит герцог де Санта Клара, преклонив колено перед девушкой.
- Обручаюсь вам, дон Мануэль, - потупив очи, откликается Бланка. - Я хочу быть хранительницей вашего дома, хранительницей огня в вашем очаге.
- Да поможет нам в этом господь бог!
В тот вечер, в начале декабря 1640 года, пылал огнями бесчисленных факелов летний замок дона Томаса на берегу реки.
Тяжелые ароматы, гирлянды роз покачиваются на легком ветерке, реют веера, подобные пестрым бабочкам, пряча и открывая женские улыбки. Кружево мантилий, кружево льстивых слов, путаница звезд на низком небосклоне и путаница галантных речей, цветы в волосах и на персях, золото тугих корсажей, душное дыхание ночи, тяжелое дыхание двуногих животных...
Взгремели гитары, приглашая к танцу.
Мигель с Трифоном гуляют по берегу.
- Имя этой звезды - Альдебаран? Падре Грегорио говорит - красивые названия придумали поэты.
- Нет, ваша милость, - хмурится Трифон. - Поэты - люди, отягченные грехами. Их речь - язык сатаны. Говорят о цветке, а думают о женских устах. Расписывают нежное чувство, а подразумевают непристойность. Остерегайтесь поэтов, дон Мигель. Моя бы власть - смел бы с лица земли все эти грешные стихи о любви.
- Но ведь и святой Франциск писал о любви...
- Да! - воскликнул Трифон. - А кто поручится, что и в его молитвах, под покровом святого вдохновения, не скрываются помыслы о женщине?
- Падре! - изумился Мигель. - Вы сомневаетесь даже в святом Франциске?
Желчь разлилась по лицу Трифона, окрасив его неестественной бледностью; под кожей скул перекатываются желваки, голос срывается от страстности:
- Да, сомневаюсь! Нам известна его жизнь. Кто единожды приблизился к женщине, кто хоть взглядом обнимал бока ее, кто вдохнул дыхание ее - тот отравил свою душу до конца дней. И хотя бы он ночи напролет бичевал свое тело - он лжет, лжет и будет лгать, ибо кто обжегся этим пламенем, погиб навеки, и продан дьяволу, и слово "любовь" в его устах означает - грех.
Читать дальше



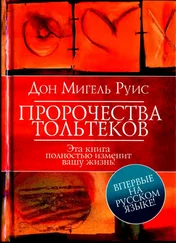


![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)

