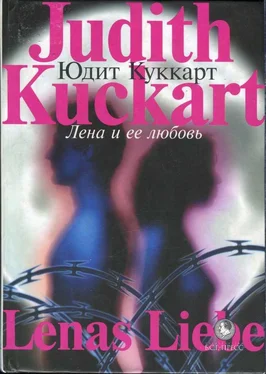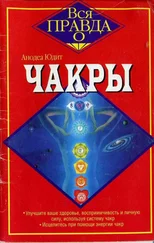И вот эта компания из трех изолгавшихся попутчиков движется в красном «вольво» навстречу Людвигову мотоциклу. Ах, Людвиг. Любит? А она сама? Любит только ее? Любит, или она заставила его влюбиться? Девочкой Лена говорила, будто умеет колдовать. Захочет стать красивой — и станет. Наколдует. Загадает желание — и станет желанной. Но для Людвига она готова быть и любой другой. Даже третьей в списке, чтобы он сказал: «Наконец-то мы вместе, без тех двоих».
— Ну как, вы дозвонились вчера ночью Людвигу? — вот что хочет спросить Дальман.
Девушка — ноги кривые, юбка лиловая — идет вдоль дороги по склону. Лена бросает взгляд в зеркало: не девушка, а потемневшая от загара женщина с ввалившимся ртом.
— Пожалуйста, возьмите правее, остановите на минутку, — просит Дальман. — Тут так трясет, что карту не разберешь. Мне уже дурно становится.
А как оно было, на том пути? Ей тоже не раз приходилось останавливаться. Под конец еще и в какой-то промышленной зоне. Под пальцем своим на карте разглядела, что вот-вот — и она там, в О. Только проехать по этой узкой дороге на юг. Так и сделала. И добралась. Вот она уже там, и все стало совершенно другим. Раньше она могла говорить об О. Теперь остались только три слова: это место есть, место это есть, есть это место.
— Где мы сейчас? — обращается к ней Дальман.
— Скоро Здуньска Воля.
Дальман там бывал, она знает. Сам рассказывал про усадьбу Липовских. И про прелестную свою кузину — дети совсем, а как близко склоняли головки над тонюсенькой солдатской Библией.
Так кем же был распят Господь?
Евреями, — толковала кузина, — евреями.
— Разрешите, я выйду на минутку? — вступает вдруг священник.
— А что такое?
— Прошу вас.
— Зачем?
— Я быстро, — уверяет. — Очень быстро, — и он почти на улице.
Лена находит для машины местечко у стройплощадки. Мотор не выключала, и вот он, священник, уже переходит Рыночную площадь.
— Ну, смех, — фыркает Дальман. — Как будто к дереву не мог подойти. Все равно его здесь никто не знает.
Однако черная сутана развевается у входа в костел. Идут следом.
— Вот оно что… — удивляется Дальман. — Вот он куда! Ну, если это не перейдет в цикл, то и ладно.
Входят из света и солнца в каменную прохладу, а тот уже на коленях возле исповедальни. Открытой. Ей видно, как здешний священник пошептал что-то в ухо заунывной дамочке в вызывающем платье, зевнул и погладил лысину, расправляя столу. И вдруг заметил коллегу — коленопреклоненную темную фигуру в луче солнца. Закрывает на миг лицо руками, а дамочка в это время встает с коленок, перекрестившись. Коленки красные, платье бирюзовое. Те, кто ждет, готовы пропустить священника без очереди. Тот поломался, поломался, но идет. Против света долговязый его силуэт смотрится и забавно, и элегантно. Один встает на колени, другой усаживается. На одной высоте оказываются у них головы, а над ними от руки написанная табличка: «Polski / English».
— Это что значит?
— Может и по-английски, если захочет, — разъясняет Дальман.
— Так он ведь свободно по-польски.
— Ну и что? Многие вещи легче выразить ломаным языком.
— Какие-такие вещи?
— Ну… — тянет Дальман.
— О, это не про него!
— Любой человек может вообразить что-нибудь прекрасное.
— Что, например?
— Например, красивый пейзаж.
Красивый пейзаж! Откинула назад голову, закрыла глаза. Прямехонько сидит на церковной скамье. Красным-красно под прикрытыми веками. Из красноты проступает пейзаж, одинокий уголок близко от границы. Вот куда она направится. Земля там даже не плоская, а гладкая, и дорогой туда, в чужую страну, служит линия во влажном воздухе. Цвет той линии — стальной, как рельсы, и серый, как река. Трава, по которой она ступает, подобна длинным волосам женщин, прислонившихся к ветру. И пейзаж этот не реальность, а душевное состояние. Обернулась — а в машине двое, лица плоские от изумления. Мигает внутренняя подсветка. Вновь заглядывается на пейзаж. Что такое? — это ей Дальман из бокового окошка. Что такое? — это ей священник. А вы-то что хотите? Либо Людвиг, либо никто. Вот ее слова. Оглядывается вокруг. За плоской землей — совсем плоская земля, там светлеет. «Так тут же природоохранная зона, заповедник! Ни за что не выйду из машины», — кипятится Дальман. А она: «Ах, так. Ну и ждите, пока к вам солнце в машину сядет. Только меня и след простыл! Увидите птицу большую, вон там, на ветке, размером с курицу, но совсем не ручная! Она-то не улетит, когда подойдете, а я — исчезну». Идет. Густой подлесок, хрусткий ковер крупной вязки. Захочет — вернется. И закурить захочет — вернется. Вовсе не тогда, когда за ней придут эти два старикана. Где-то лает собака. Священник опускает окошко, передразнивает. Дальман смотрит изумленно. И дальше тишина. Но вдруг приграничный ландшафт теряет реальность, становится чужим: этот мир, опутанный проводами, создан не ею, а теми, у кого длинные руки. В сфере чьих-то нейтральных интересов использование ее в качестве отдельной функции планируется для собственных исчислений. Людвига нет. А Лены нет и вовсе, она себе показалась. Как же выбраться отсюда? Бежит наискось через лес, и локти вперед, в стволах полыхает прожектор, образуя коридор света, и по нему — к машине. Двумя кулаками упирается в капот, потом с размаха — по металлу. Звук как выстрел. «Я Людвига там не видала! — воет, надрывается. — Его там нет, не явился!» Двое мужчин сидят по местам, глядя так, будто из-за нее простояли на коленях по два часа каждый в рассыпанной соли. Бьет опять по капоту, глаза запали, волосы мокрые птичьими лапками мотаются по плечам. Если он от меня уйдет, я пойду следом. Если он не явится, я его уничтожу!
Читать дальше