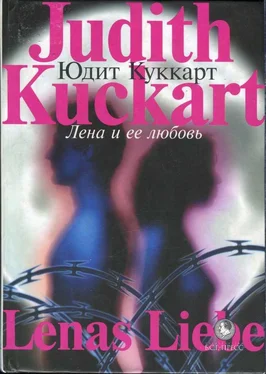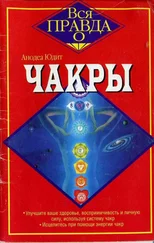— Нет. Это священник.
— Да. И тело летит через забор в лагерь.
— Нет. Это Дальман.
— Да. И падает по ту сторону света, — заключает Лена.
— А что же тетка в поплиновом плаще? — священник требует точности. Его голос хрипит.
— Тут уже далеко до охраны исторических памятников, — комментирует Дальман. — Какую же злобу надо хранить, чтоб во все это вдаваться.
В молчании они обгоняют полицейский автомобиль, затем повозку, запряженную лошадью. Мужчина с поводьями на козлах, женщина с младенцем на руках. А крохотное местечко между ними, где и малой пичужке было бы тесно, занимает кое-кто еще. Млечно-белый образ. Прозрачный гость. Имя ему — счастье. Объехали повозку. Дальман крутит головой, машет. И у Лены вертится в голове та фраза, в которой для ее матери и заключался он весь: «Чокнутый, к тому же побывал в Польше».
А Дальман все машет рукой.
— Кого вы там приветствуете? — не утерпела Лена.
— Ребеночка, — звучит в ответ.
Три дня подряд она около полудня ждала и ждала в кафе-мороженом, но все зря. А принято ли звонить священникам в квартиры их родителей?
Ее отец позвонил к Дальману. Не могла бы она забрать из больницы сумку матери? Дальман согласился за нее. И по возвращении встретил Лену с материнским выражением лица и строгим голосом отправил за сумкой. Она взяла куртку в прихожей, а на улице уже темно. Спортивная сумка так и висит на батарее.
Дежурная на входе в больницу раньше сидела за кассой в бассейне. Лампа с зеленым абажуром освещает ее лицо снизу, заостряя черты.
— Быть не может, — сказала она, снимая очки.
— Отчего же, — ответила Лена.
— Вы ведь дружили с моей племянницей, да?
— Верно, — согласилась Лена, хоть и не помнила никакой племянницы. Опять, небось, из подружек детства, нагонявших на нее тоску еще в детском саду. Из этих пресных, из этих чистеньких и миленьких девочек — впрочем, покрасивее, чем она сама. Потому что блондинки. Белая вошь с бантиком — то скучает, то ревет. И дома любит посидеть. Короче, настоящая девочка, и скучно с ней так же, как оказалось впоследствии с настоящими мужчинами.
— Ну, и чем она теперь занимается? — Лена не торопилась. Краем глаза она заметила кого-то за стеклом второй двери. Кого-то одного, и в черном.
— На почте служит, — сообщила дежурная.
— Замужем?
— Одна живет, в общежитии для работников почтамта.
— А ведь красивая была, — Лена искренне силилась вызвать в памяти личико сердечком и белокурые волосы, и темные глазки. Хотела показаться любезной-прелюбезной и произвести впечатление. Ведь кто-то третий уже прислушивался к разговору.
— Очень красивая, очень, — повторила Лена. И он встал рядом. Глянула на сумку у него в руках. Глянула в лицо.
— Добрый вечер, господин пастор, — приветствовала дежурная.
— Я иду туда… — начала Лена.
— Я иду оттуда к тебе, — перебил Людвиг, — с ее сумкой.
Поставил сумку, и в этом движении Лене почудился материнский запах — такой, как прежде. Тяжелые дорогие духи, волосы — орех. Так пахнут любимые зверюшки, а не люди. Этот запах она и ценила в матери больше всего.
— Что ты так смотришь? У меня что-то с лицом? — Лена недоумевала.
— Да.
— Что же?!
— Лицо твоей матери, — был ответ.
— Тебе не нравится?
— Почему же, — возразил он, — красивая была женщина, по-моему. Хочешь посмотреть, где она умерла?
— Где же?
— На третьем этаже. Хочешь посмотреть?
— На третьем этаже умирают красивые женщины? — Лена, в замешательстве.
— Пошли, — сказал и сначала взял сумку, потом ее руку.
Он едва ли не тащил Лену за собой. И то, что на лестнице им попадались навстречу медсестры, казалось, ему безразлично.
— В детстве я тут часто бывала, — сказала Лена. — Я и родилась тут.
В больнице все было как прежде: и деревянные лестничные перила, покрытые белой эмалью, и напольные часы на площадке между первым и вторым этажами, а между вторым и третьим — Мадонна с вытянутым унылым лицом и выкаченными глазами.
— Базедова болезнь, — фыркнула Лена.
— Барокко, — не согласился Людвиг.
— Она, смотри-ка, очень крепко держит младенца. А увидит меня, так еще крепче прижимает. Ей даже идет. Ей когда страшно, лицо становится живее.
— Очень красиво, — сказал Людвиг.
Лена начала рассказывать:
— Бабушка у меня работала тут внизу, в прачечной. После школы я ходила к ней обедать. Рыбные палочки, если пятница, и желе — или вишнево-красное, или, как трава, зеленое, но со сгущенкой. Сгущенка меня особенно радовала. Подойдет, бывало, монашка к бабушке у бельевого катка, погладит по потной спине и приговаривает, дескать, молодчина, Маргот, молодчина. Та обернется и смотрит, печально так и серьезно, как большая лошадь. Когда роль маленькая — служанка, или вроде того, я на сцене играю свою бабушку. Вплоть до упрямого круглого подбородочка, вплоть до характера — ровного, как гладильная доска…
Читать дальше