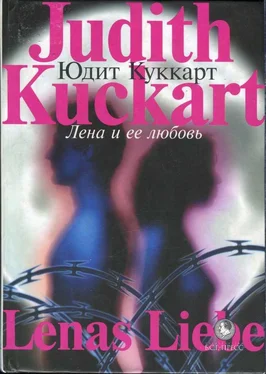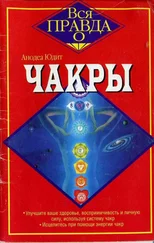— Клянусь, я… — проговаривает она.
Дальман поворачивается к священнику, выпрямляется на сиденье. Явно что-то задумал.
— Скажи-ка, Рихард, а почему ты, собственно, тоже едешь? — вот каков его вопрос.
Сквозь пламя зажигалки она взглянула на красивое, чуть уже погрубевшее лицо с широкими скулами. Людвиг — кошачья порода, и гуляет сам по себе. Под глазами тени, но глаза такой синевы, что ради нее-то он, видно, и избран Всевышним. Понадобился Ему красавец-служитель. Лене он тоже нравится, и даже сильнее прежнего. Усталость ему идет. Не похож теперь на певца с эстрады. Посмотрел на ее руки, а те на вид старше нее самой, и сказал:
— Я совершил над ней таинство елеопомазания.
— Что это ты вспомнил, глядя на мои руки?
— Так просто, — ответил он. — Надо нам поговорить. Никуда от этого не денешься.
— Можно и завтра позвонить, — после недолгого молчания вновь вступает священник. Вопрос Дальмана он пропустил мимо ушей.
— Смотрите, ласточки! — Дальман из бокового окошка тычет пальцем в церковную колокольню. Крохотные черные тельца на лету рассыпают по небу музыку звуковой перестрелки. Круглые пробоины в воздухе Дальман пытается прочесть как незримые ноты. И напевает мелодию, внятную ему одному.
— Ласточки, — повторяет священник.
— Ласточкино одинокое гнездо, — вторит ему Лена и снова смотрит назад.
— Да не стоит то и дело поворачиваться, Лена. По-моему, вы ему не нравитесь, — тихо говорит ей Дальман.
— Очень даже нравлюсь, спорим?
И поддает газу, с разлета входя в поворот. Оба пассажира хватаются за дверные ручки, Дальман с укоризной трясет головой.
— Редко я видел людей в такой печали, как она, — начал Людвиг, кивнув Сильвии, чтобы подошла. — А я еще и опоздал. Больничная капелла, и сидит она одна на первой скамье, в тигровом пальто. В августе — пальто, можешь себе представить?
— У моей матери — могу.
Лену никто не предупредил о предстоящем в больнице Пресвятой Девы Марии, хотя событие, похоже, считалось торжественным. Почему же ее не пригласили?
— Капуччино, пожалуйста.
Сильвия ему улыбнулась. И он улыбнулся в ответ.
— Так вот, я опоздал, влетел туда, и по проходу в центре, — продолжал Людвиг. — Спотыкаюсь — там микрофонный шнур, и они, в пижамах, смотрят на меня с осуждением. Твой отец стоял близко от алтаря и, как меня увидел, спрятал мобильный. Остановил колокол — тот уже полчаса звонил к службе, и повел меня под руку. Шепнул, дескать, он сам был когда-то алтарным служкой. Тут мама твоя развернулась и вслух заявляет: «Дерьмо! Смерть — дерьмо!»
— Почему же ты опоздал? — спросила Лена и пальцем полезла за стекла солнечных очков.
— Из-за письма.
— Какого письма?
Бросил на Лену внимательный взгляд. Ее рука и его рука лежали рядом на маленьком столике. Лена тихонько повела мизинцем в его сторону. Тут-то Сильвия и поставила на столик чашку, увенчанную взбитыми сливками.
— Сначала мы все запели, но в неподходящей для меня тональности, — рассказывал Людвиг.
— В тональности больничной пижамы, — перебила Лена. — Много было народу?
Людвиг зачерпнул ложкой сливки и отправил их в рот.
— Много. Некоторые чуть ли не под капельницей. Тут я забыл слова, четыре дурацких строчки в утешение умирающим, так что бывший служка — твой отец — держал передо мной и елей, и текст, и все улыбался. Отлично себя чувствовал. Я в тот момент испытывал к нему симпатию. В конце мы по ее просьбе спели «Храни нас, Пресвятая Дева».
— А письмо?
— Глаза у твоей матери, — не сбивался Людвиг, — были как осколки бутылочного стекла. Зеленые, их забивают в стену, чтоб никому не перелезть. Потом мы с отцом развернули ей кровать, так что она могла смотреть в окно. На западную сторону, там видны высокие буки, закат, и еще Колпингов дом. Она говорила, что в этой палате уже лежала.
— И что? — спросила Лена.
— Это была обычная палата, не для умирающих.
За столиком у Паоло, пока сворачивалась торговля на рынке, под звуки аккордеона началось то, что Лена и Людвиг впоследствии называли своим дополнительным временем. На какое-то время они остались в С. Нашли себе в С. убежище. Лена поднялась, и стул упал. Как тогда, в гримерной, при появлении Людвига. Теперь Людвиг и вправду тут. К падающим стульям она относилась серьезно: начиная с этой минуты все замерло в ожидании, чтобы свершиться. Как только Людвиг сегодня днем сел за столик, посмотрел на нее, так и встала перед ее глазами давняя ночь в траве. Они родились в этом тысячелетии, а умрут в следующем. Вот что было им ведомо, а еще — что поздний час пробил уже в их жизни.
Читать дальше