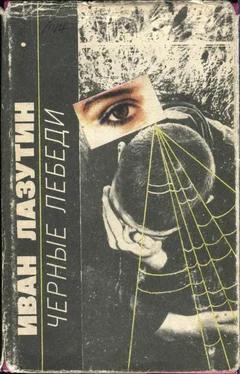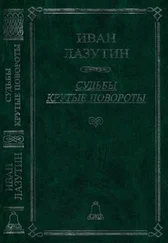Припав к кувшину с крепким деревенским квасом, который сестра Иринка достала из погреба, Дмитрий никак не мог напиться. Оторвался от кувшина только тогда, когда увидел в дверях сгорбленную фигуру деда Евстигнея.
Поздоровавшись, дед неторопливо прошел к столу и сел на кованый сундук.
— Молодец!.. — сказал он и расправил бороду.
— Почему молодец?
— Дождичек к нам привез… Мы тут на корню сохнем. За все лето хоть бы один добрый дош прошел. Поля горят, сена никудышные… Одним словом, радоваться нечему.
— Что же, как-нибудь переживем… Видели и не такое… — сказал Дмитрий, вытирая полотенцем голову.
— Как она там?..
— Кто она?
— Москва-то?
— Хорошеет, дед Евстигней, строится.
— Чем же хорошеет-то?
— Дома строят, дворцы, фабрики, заводы… Есть дома по тридцать этажей, а то и выше. Маковкой до самых облаков достают.
Дед Евстигней, словно что-то прикидывая в уме, полез в карман и достал пузырек с нюхательным табаком. Не торопясь, насыпал на ладонь такую щепоть табака, которой вполне хватило бы на десятерых. Он не чихал, а только шмыгал темными продубленными ноздрями и о чем-то сосредоточенно думал, щуря слезливые глаза.
— Да, что правда, то правда… Москва есть Москва… Она бьет с носка, — старик сипловато вздохнул и заключил: — Хотя бы одним глазком поглядеть на нее, сердешную. Взглянуть разок — и помирать можно.
Дед Евстигней склонил голову набок, точно к чему-то прислушиваясь, и заложил в другую ноздрю такую же щепотку табаку. Пошмыгал носом, повернулся к Дмитрию:
— Чьи там берут-то, Митяшка, наши или ихи?
— Что-что?
— Я спрашиваю, чьи берут: красные или белые?
Дмитрий догадался: от старости дед Евстигней начал потихоньку терять память.
— Красные, дед Евстигней, красные… Белым дышать не дают. Лупят и в хвост, и в гриву.
— Это хорошо, что красные, так и надо! А где же баба-то твоя, чего не кажешь?
— В бане она. С дороги нужно помыться.
— Это тоже хорошо. Только ты ступай, шумни окаянным, чтобы парку мне оставили, я тоже схожу. Как пар-то?
— Хорош!.. Насилу с полка слез.
— Да скажи им, чтоб особо не жадничали, а то после них, паларыч их расшиби, никогда пару не жди, дуром выпускают. Я пойду за подштанниками да веник захвачу. Ты только ступай, скажи бабам, а то ведь они…
Опираясь на палку, дед Евстигней тяжело встал с сундука и поковылял к двери. У порога он остановился и лукаво посмотрел на Дмитрия:
— После бани зайду. Поди, привез. Мне шкалик, не боле, что-то в груди заложило.
— Ладно, дед, заходи, найдется и шкалик.
— Ну, я пошел, а то они, паларычи, весь пар выхлещут. На той неделе пошел посля них — там хоть волков морозь.
Не успел Дмитрий проводить деда Евстигнея, как послышался стук в дверь и чей-то вроде бы знакомый голос с хрипотцой спросил:
— Можно?
— Войдите.
Филиппок и Гераська, соседи Шадрина, пришли не с пустыми руками. Они принесли литровку первача и кусок домашнего сала. Дмитрий пить наотрез отказался. Знал: стоит только с Филиппком выпить стопку — того уже не удержишь: засядет до утра и не даст никому сказать слова, все будет вспоминать, как они в молодые годы дружили с покойным отцом Дмитрия, о котором он не мог говорить без слез.
— Заходите завтра. Сегодня я, дядя Филипп, с дороги что-то замотался. Завтра — за милую душу. Да и жена дорогой прихворнула.
Филиппок и Гераська извинились, забрали со стола самогонку и сало, заверив, что завтра к вечеру непременно зайдут.
— Я, Егорыч, сроду не забуду, как ты меня тогда выручил из беды. Веришь совести — я уже было совсем крылья опустил.
— Ничего, ничего… Нужно забывать старые болячки.
— Рад бы забыть, да они вот здесь! — Гераська постучал кулаком по широкой груди. — Ноют, как только вспоминаю. Уж больно обидно…
Проводив Гераську и Филиппка, Дмитрий вошел в горенку. Из окна он увидел, как перед их палисадником крутится Васька Чобот. На нем была старая, с заплатами, отцовская гимнастерка и затасканная военная фуражка с артиллерийским околышем. Васька Чобот здорово подрос. Ему не терпелось зайти к Шадриным, но его не приглашали.
Дмитрий прилег на кровать, закурил, почувствовав сладкое оцепенение во всем теле. Со стены, над столом, на него смотрели из потемневших рамок фотографии родных и друзей; на глухой стенке висела репродукция с картины Шишкина «Корабельная роща». Раньше в избе этой картины не было. На потрескавшихся косяках двери пестрели зарубки, которые делали братья Шадрины, отмечая свой рост. Зарубки были сделаны лет пятнадцать — двадцать назад, но вид их вызывал живые воспоминания о давно ушедшем детстве.
Читать дальше