Баю, баю — не шуметь,
Вышел из лесу медмедь,
Он несет малину нам,
Ребятёшкам маминам.
Топай, мишка, пряменька,
Принеси нам пряника,
Принеси нам каравай,
Баю, баю, баю, бай,
Глазки, Федя, закрывай.
— Опять у меня не спишь, фулиган такой!.. Я кому говорю, но-ка, счас же закрой глаза! И спи. Ишь, раздурелся… А то дождешься у меня, — ремень-то, вот он, — Оксана потрясла ремешком, что торчал из отцовских брюк, висящих на плечиках, и снова да ладом потянула колыбельную.
Котя, котенька, коток,
Котя-серенький бочок,
Приди, Котя, ночевать,
Нашво Феденьку качать…
— Опять не спишь, ушами шевелишь!.. Ну, тогда вот тебе!., вот! — и Оксана пальчиком, нежно нашлепала по крохотной пуп-совой заднюшке, но тут же спохватилась и, прижимая дитятко к щеке, стала всего оглаживать, утешать, — Ладно, не плачь, не плачь, ладушка-оладушка… Ты же у нас послушный, да?
— Да, — ответил Иван за пупса, и дочь вскинула на отца настороженные глаза, и тогда он, отводя взгляд, пошел городить что попало, лишь истаяла в дочерних глазах настороженность. — Этот Федя… съел медведя… ой, Оксана, балованный растет. Ты в школу убежала, а я прилег вздремнуть, так разве ж он даст?! Бегает, ногами стучит, орет как оглашенный. Мертвого разбудит…
Пупс Федя приносил Краснобаевым уйму хлопот, — вечно блудил по дому, засыпая то под столом, то под Оксаниной койкой, а то и домовушко шатуна так спрячет, что и при солнушке с лучиной не найдешь; и тогда в ночь-полночь искали потерю всей семьей, потому что без Феди Оксана не засыпала.
Раньше дочь с веселым азартом подхватывала отцову баешную игру, но сейчас потупила опечаленные глаза и молчала.
Поздним вечером Иван заглянул в Оксанину спаленку, где дочь, уложив Федю на подушку, весело распевала:
Два пупсика гуляли,
В Таврическом саду,
И шляпу потеряли,
В двенадцатом часу.
И шел какой-то дядька,
И шляпу подобрал,
А пупсики кричали:
«Украл!., украл!., украл!..»
Иван присел на краюшек койки и, снова одолев гордыню, виновато вздохнул, погладил дочь по взъерошенным волосам. Оксана снизу вверх пытливо заглянула в самую глубь отцовых глаз и прошептала сквозь слезы, прикусывая дрожащие губы:
— Папочка, ты не сердись на меня, ладно? Я больше ничего раздавать не буду… Не обижайся…
— Ладно, ладно, спи… Я не обижаюсь, наоборот… — он не смог досказать, повиниться и, опустил глаза к полу, стал разглаживать и расправлять одеяло вздрагивающей ладонью, которую дочь тут же ухватила и прижала к глазам, чтобы отец не видел слез.
Иван хотел пожалеть дочь, успокоить, но у самого горло перехватила колкая сухость, сердце сжалось, зашершавело. Он прокашлялся и, глядя в стемневшее окошко, досказал:
— Я наоборот… Но и ты на меня не обижайся… Ты можешь раздавать подружкам все, что хочешь. Но если иногда спросишь у нас с матерью, тоже не лишнее. Мы же тебя худому не научим…
— Пап, а ты Петьку на двор не будешь выкидывать? — это Оксана защищала приблудившего ноняшней осенью щенка, заматеревшего… в низкорослую, мохнатую дворняжку.
— Доченька, он же дворовый пес, не комнатный.
— Ему же холодно во дворе.
— Мы его к теплу приучим с осени, знаешь как он будет зимой страдать на морозе. А ему надо двор сторожить… Помнишь, ты его на Рождество в избу пустила, как он потом в тепло рвался, всю дверь на веранде изгрыз…
— Ну и пусть дома живет.
— Петька — дворовая собака, и не надо его портить… Ну, ладно, сказочку прочитаю и спи…
Иван пошел в свой куток за книжкой, но у порога обернулся… и оторопел: Оксанино одеялко вдыбилось комом, зашевелилось, ожило, и тут же высунулась хитроватая Петькина мордочка. Видимо, пока Иван сидел на дочериной койке, пес таился под одеялом у Оксаны в ногах, а как хозяин пошел вон, решил выбраться из пододеяльной духоты, глотнуть свежего духа.
— М-м-м… — промычал Иван, будто зубы свербило. — Ну, это уж, Оксана, ни в какие ворота… Ты пошто в постель-то его пустила?! Он же везде шарится. Притащит заразу…
Опять стало копиться раздражение, но припомнил, каким ма-каром явился Петька в дом, и невольная улыбка размягчила сохнущие в досаде губы.
Промозглым вечером… зябкая осенняя земля отходила к зимнему сну… в жильё Ивана Краснобаева явился домовой, домову-шечко, ласково сказать.
Ирина, ушомкавшись за день, уже почивала, доглядывала десятый сон, а Иван, деревенскими сказками, с горем пополам угомонив малую дочь Оксану, потушил свет, задремал… И вдруг послышался писк не писк, плач не плач, — прерывистый, жалобный скулеж, что сочился в избяную тишь то ли сквозь рассохшиеся половицы, то ли сквозь стены, то ли с потолка. Писк, похожий на занудную капель из ржавого рукомойника, вдруг пропадал, и хозяин томительно ждал его, уставившись в пустоту; и писк опять нарождался, потом снова замирал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
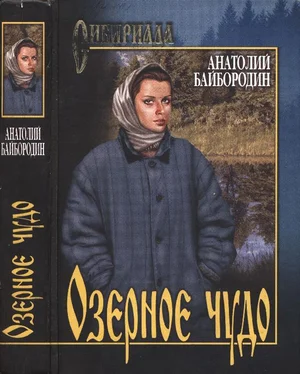
![Анатолий Байбородин - Деревенский бунт [Рассказы, повести]](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-thumb.webp)










