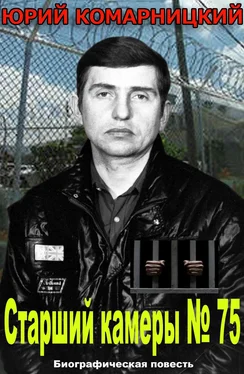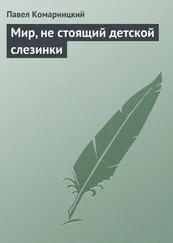Наконец нас растолкали в темные зарешеченные клетки в вагоне. Положенная на квадрат норма загрузки опять превышалась в три раза. Опять для расположения измученного тела пришлось принимать положение змеи. Перед этапом на «счастливую» дорогу нам был выдан паек: булка хлеба и маленький кулек сахара. Что касается положенной банки консервов, она нам только полагалась по бухгалтерской ведомости. Консервы, видимо, больше были нужны полупьяному конвою на закуску.
Поезд тронулся. Под непривычный слуху монотонный стук колес каждый предался воспоминаниям о тех счастливых дорогах, которые были у нас когда-то там, на воле.
Хотелось плакать или потихоньку подвывать.
На верхнем ярусе, где разместился я, можно было лежать, внизу же, тесно прижавшись друг к другу, заключенные могли только сидеть. Впрочем «только» подходит как к нижнему, так и к верхнему ярусу. Пространство между верхней сплошной полкой и потолком не позволяло изменить позу и сесть.
Вскоре время взяло свое, нам захотелось есть. «Прокаженные» ехали в отдельном купе, так что все продукты мы объединили и приготовили ужин из ломтей хлеба. Сахар перемешали с сухим чаем. Эта смесь именовалась «сушняком»: на сухую сахар и чай. Мы черпали ложками, заедая сухим черным хлебом. Через 10–15 минут с ужином было покончено, все опять заняли первоначальные позы.
Спустя некоторое время мы поняли роковую неизбежность подобного ужина. Хлеб, чай и сахар в наших желудках под воздействием температуры и под влиянием неподвижности раздули наши желудки, принесли ужасную тяжесть, боль и жажду.
— Начальник, выведи в туалет, — попросил один из нас проходившего по коридору охранника.
— Солдат, дай водички, — попросил мой сосед, которому явно стало плохо. Из купе охраны раздался полупьяный голос:
— Заткнитесь, суки! Посцать будем выводить в десять вечера! Тогда и воду получите!
Время было около шести часов вечера. Подобное заявление конвоя было явным издевательством.
В других клетках происходило то же самое. Крики усиливались. Люди не могли терпеть.
— Начальник, выводи в туалет, жаловаться будем, — опять раздались крики, уже содержащие угрозу.
У пьяных конвоиров это вызвало звериную злобу. Конвоиры забегали, гремя сапожищами, заглядывали в наши клетки, выискивали тех, кто кричал. Наконец, как бывало всегда в подобных случаях, из клетки вытащили запуганного старика и начали его избивать.
Все закричали… Вагон задрожал от взбешенных криков. Конвоиров стали в открытую обзывать и материть.
— Что вы делаете, псы!.. За что издеваетесь?! Вы люди или фашисты?!
Бунт всех клеток подействовал на конвой. Они решили удовлетворить наши ничтожные просьбы, но сделать это с иезуитской изобретательностью.
— Сейчас будем выводить в туалет, но только посцать! — пьяный охранник кричал громко, чтоб было слышно во всех клетках. — Каждому даем времени, пока сгорит спичка. Если не успеешь — пойдешь в туалет завтра.
Что значит оправиться за двадцать секунд, мы еще не знали. Когда дошла очередь до нашей клетки, первые заключенные, которых уже выводили, тут же возвращались с болезненными гримасами.
— Издеваются гады. Парни, готовьтесь заранее, расстегивайте штаны и вытаскивайте…, иначе не успеть.
Как я понял это был полезный совет.
Дошла очередь и до меня. Как только я оказался на коридоре с расстегнутыми брюками, солдат ткнул меня кулаком в спину и приказал бежать в конец вагона, где находился туалет. Там возле открытой туалетной двери стояли два солдата. Один из них ударил меня ребром ладони по затылку и втолкнул в туалет. Второй зажег спичку. Туалет не закрывался. Кое-как выдавив из себя несколько струй, я выскочил из туалета и после очередных ударов по затылку и по спине был отправлен в свое купе.
Через такую процедуру проходили все заключенные.
Туманное ранее лицо садизма в местах лишения свободы приобретало для меня реальный облик.
С той поры я часто задаю себе один измучивший меня вопрос: интересно, почему доброта не может отработать свои проявления до таких тонкостей, как зло и насилие?
Какой философ мог бы на это ответить?
Несколько лет спустя, проезжая по этой дороге в комфортабельном купе, я вспоминал все происходящее со мной в те «удивительные» годы и написал под впечатлением стихотворение:
По дороге по этой когда-то
За решеткой я ехал глухой.
Ныло сердце, оковами сжато,
Псом больным выл отнятый покой.
А затем — плеть, укусы и волки,
Беспросветность степных лагерей.
Лай конвоя, холодные полки
И ухмылки продажных друзей.
Эх, дорога, ты видела много.
И меня, молодого глупца,
В подведенье большого итога
В клетке зэка куда-то везла.
Видит бог, ты меня научила
И прощать, и любить, и ценить.
Ясно то, без тебя б и не было
То, чему предназначено быть.
Читать дальше