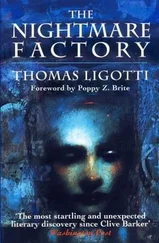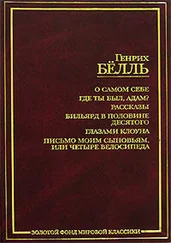Генрих Белль - Глазами клоуна
Здесь есть возможность читать онлайн «Генрих Белль - Глазами клоуна» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Глазами клоуна
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:2.67 / 5. Голосов: 3
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Глазами клоуна: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Глазами клоуна»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Глазами клоуна — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Глазами клоуна», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
- Никак, - ответил я, - никак. Скоро я смоюсь.
"Я провел два ужасных месяца, потому что не имел сил смыться; и каждый проглоченный мною кусок мать сопровождала таким взглядом, словно я был преступником. При этом она годами кормила всяких приблудных паразитов, этих своих "художников" и "поэтов" - и халтурщика Шницлера и Грубера, который, впрочем, был не такой уж противный. "Лирик" Грубер - жирный, молчаливый и грязный субъект, прожил у нас полгода и не написал за это время ни строчки. Но когда по утрам он сходил к завтраку, мать каждый раз смотрела ему в лицо, будто хотела обнаружить на нем следы ночных битв с демоном-искусителем. Она взирала на него такими глазами, что это казалось уже почти неприличным. В один прекрасный день он бесследно исчез, и мы, дети, с удивлением и страхом обнаружили в его комнате целую кипу зачитанных до дыр детективных романов, а на письменном столе несколько клочков бумаги, на которых было написано всего одно слово: "Ничто"; на одном клочке это слово повторялось дважды: "Ничто, ничто". Ради таких людей мать была готова даже на то, чтобы спуститься в погреб и принести лишний кусок ветчины. По-моему, если бы я начал скупать мольберты гигантских размеров и малевать на гигантских холстах нечто невообразимое, она бы примирилась с моим существованием. Ведь тогда она могла бы сказать:
- Наш Ганс художник, он еще найдет свою дорогу. А пока он в поисках.
Но так я был для нее ничем, всего лишь великовозрастным гимназистом, недоучкой, о котором она знала только, что "он умеет смешно представлять". Разумеется, я не желал показывать образцы своего искусства в благодарность за их поганую жратву. Полдня я проводил у отца Марии, старого Деркума; я немножко помогал ему в лавке, а он снабжал меня сигаретами, хотя дела его шли не так уж хорошо. В таком состоянии я прожил дома всего два месяца, но мне показалось, что они тянутся вечно, еще дольше, чем война. Марию я видел редко, она готовилась к выпускным экзаменам и пропадала у школьных подруг. Иногда старый Деркум ловил меня на том, что, совершенно выключившись из разговора, я пристально смотрю на кухонную дверь; качая головой, он говорил:
- Сегодня она придет поздно.
И я заливался краской.
Была пятница, а я знал, что по пятницам старый Деркум ходит вечером в кино, не знал я только, будет ли Мария дома или отправится зубрить к кому-нибудь из подруг. Я ни о чем не думал и в то же время почти обо всем подумал, даже о том, сможет ли Мария сдавать "после этого" экзамены; я уже тогда понимал, что будут говорить люди, и оказался прав: полгорода, возмущаясь "совратителем", добавляло: "И надо же, как раз перед самыми экзаменами". Я подумал даже о девушках из ее группы, которые почувствуют разочарование. А потом меня терзал страх перед тем, что один молодчик из нашего интерната называл "физиологическими подробностями", и еще меня мучил вопрос - мужчина ли я. Но самое поразительное заключалось в том, что я ни на секунду не ощутил "вожделения плоти". Я думал также, что с моей стороны нехорошо воспользоваться ключом, который мне дал отец Марии, но другой возможности проникнуть в дом и в ее комнату у меня просто не было. Единственное окно в комнате Марии глядело на оживленную улицу, до двух часов ночи по ней сновали люди; меня бы просто поволокли в полицию... А ведь я должен был увидеть Марию именно сегодня. Я даже пошел в аптеку и купил на одолженные у Лео деньги какое-то снадобье, про которое у нас в интернате рассказывали, что оно укрепляет мужскую силу. В аптеке я покраснел до ушей, к счастью, за прилавком стоял мужчина, но я говорил так тихо, что он заорал на меня и потребовал "отчетливо и громко произнести название препарата", и я повторил название, взял лекарство и заплатил жене аптекаря; она посмотрела на меня, качая головой. Аптекарша, конечно, знала, кто я такой, и, когда на следующее утро ей обо всем доложили, стала, наверное, строить всякие предположения, весьма, впрочем, далекие от истины, потому что, пройдя два квартала, я открыл коробочку и выбросил все таблетки в сточную канаву.
Часов в семь, когда в кино начались вечерние сеансы, я отправился на Гуденауггассе; ключ я держал наготове, но дверь лавки оказалась еще незапертой, я вошел, и Мария крикнула сверху, высунув голову на площадку.
- Эй, кто там?
- Я, - крикнул я, - это я.
Я вбежал по лестнице и начал медленно теснить Марию в комнату, не дотрагиваясь до нее, а она смотрела на меня изумленно. Мы никогда подолгу не разговаривали, только глядели друг на друга и улыбались, и я тоже не знал, как к ней обращаться - на "ты" или на "вы". На Марии был поношенный серый купальный халат, доставшийся ей еще от матери, темные волосы перехвачены сзади зеленым шнурком; потом, развязывая шнурок, я сообразил, что она оторвала его от отцовской удочки. Мария была так напугана, что мне ничего не пришлось объяснять, она все поняла сама.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Глазами клоуна»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Глазами клоуна» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Глазами клоуна» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.



![Генрих Бёлль - Избранное [ Ирландский дневник; Бильярд в половине десятого; Глазами клоуна; Потерянная честь Катарины Блюм.Рассказы]](/books/103620/genrih-bell-izbrannoe-irlandskij-dnevnik-bilya-thumb.webp)