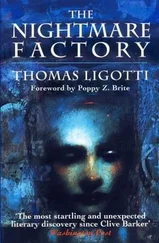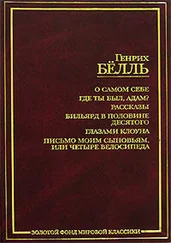Генрих Белль - Глазами клоуна
Здесь есть возможность читать онлайн «Генрих Белль - Глазами клоуна» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Глазами клоуна
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:2.67 / 5. Голосов: 3
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Глазами клоуна: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Глазами клоуна»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Глазами клоуна — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Глазами клоуна», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Белль Генрих
Глазами клоуна
Генрих Белль
Глазами клоуна
1
Когда я приехал в Бонн, уже стемнело; я сделал над собой усилие, чтобы отрешиться от того автоматизма движений, который выработался у меня за пять лет бесконечных переездов: ты спускаешься по вокзальной лестнице, подымаешься по лестнице, ставишь чемодан, вынимаешь из кармана билет, опять берешь чемодан, отдаешь билет, идешь к киоску, покупаешь вечерние газеты, выходишь на улицу и подзываешь такси.
Пять лет подряд я чуть ли не каждый день откуда-то уезжал и куда-то приезжал, утром шел по вокзальной лестнице вверх, потом - вниз, под вечер - вниз, потом - вверх, подзывал такси, искал в карманах пиджака мелочь, чтобы расплатиться с шофером, покупал в киосках вечерние газеты, и в самой глубине души мне было приятно, что я с такой небрежностью проделываю всю эту точно разработанную процедуру. С тех пор как Мария меня покинула, чтобы выйти замуж за этого деятеля Цюпфнера, мои движения стали еще более механическими, хотя и продолжали быть столь же небрежными. Расстояние от вокзала до гостиницы и от гостиницы до вокзала измеряется для меня только одним - счетчиком такси. От вокзала бывает то две, то три, то четыре с половиной марки. Но с тех пор как ушла Мария, я порой выбиваюсь из привычного ритма и путаю гостиницы с вокзалами: у конторки портье лихорадочно ищу билет, а на перроне, у контролера, спрашиваю ключ от номера; впрочем, сама судьба - так, кажется, говорят - напоминает мне о моей профессии и о положении, в котором я оказался. Я - клоун, официально именуюсь комическим актером, не принадлежу ни к какой церкви, мне двадцать семь лет, и одна из сценок, которые я исполняю, так и называется: "Приезд и отъезд", вся соль этой длинной (пожалуй, чересчур длинной) пантомимы в том, что зритель до самой последней минуты путает приезд с отъездом; эту сцену я большей частью репетирую еще раз в поезде (она слагается из шестисот с лишним движений, и все эти "па" я, разумеется, обязан знать назубок), поэтому-то, возможно, я и становлюсь иногда жертвой собственной фантазии: врываюсь в гостиницу, разыскиваю глазами расписание, смотрю в него и, чтобы не опоздать на поезд, мчусь по лестнице вверх или вниз, хотя мне всего-навсего нужно пойти к себе в номер и подготовиться к выступлению.
В большинстве гостиниц меня, к счастью, знают; за пять лет создается определенная рутина, и вариантов здесь меньше, чем кажется на первый взгляд; кроме того, импресарио, изучив мой характер, заботится, чтобы все, так сказать, шло как по маслу. Дань уважения отдается тому, что он именует "впечатлительностью артистической натуры", а когда я нахожусь у себя в номере, на меня излучаются "флюиды хорошего настроения": в красивой вазе стоят цветы, и, как только я сбрасываю с себя пальто и запускаю в угол башмаки (ненавижу башмаки!), хорошенькая горничная уже несет мне кофе и коньяк и приготовляет ванну - зеленые эссенции делают ее ароматной и успокаивающей нервы; лежа в ванне, я читаю газеты, и притом только развлекательные, - не больше шести и не меньше трех, - а после я не очень громким голосом напеваю что-нибудь церковное: хоралы, псалмы, секвенции, те, что я запомнил еще со школьных лет. Мои родители, убежденные протестанты, следуя послевоенной моде проявлять веротерпимость, определили меня в католическую школу. Сам я далек от религии, даже в церкви не бываю; церковные тексты и напевы я воспроизвожу из чисто медицинских соображений: они наиболее радикально излечивают от двух недугов, которыми наградила меня природа, - от меланхолии и головных болей. Однако, с тех пор как Мария переметнулась к католикам (Мария сама католичка, но слово "переметнулась" все равно кажется мне тут вполне уместным), мои недуги усилились, даже "Верую" и литания деве Марии - раньше они действовали безотказно - теперь почти не помогают. Есть, правда, такое лекарство, как алкоголь, но оно исцеляет на время, исцелить навсегда меня могла бы только Мария. Но Мария ушла. Клоун, который начал пить, скатится по наклонной плоскости быстрее, нежели запивший кровельщик упадет с крыши.
Когда я пьян, я неточно воспроизвожу движения, которые может оправдать абсолютная точность, и потом я совершаю самую скверную ошибку, какую только может совершить клоун: смеюсь над собственными шутками. Нет горшего унижения! Пока я трезв, страх перед выходом все время возрастает (большей частью меня приходилось силой выталкивать на сцену); мое состояние, которое некоторые критики характеризовали как "лирически-ироническую веселость", скрывающую "горячее сердце", на самом деле было не чем иным, как холодным отчаянием, с каким я перевоплощался в марионетку; впрочем, плохо бывало, когда я терял нить и становился самим собой. Наверное, нечто подобное испытывают монахи, погрузившись в созерцание. Мария всегда таскала с собой массу всяких мистических книг, и я припоминаю, что в них часто встречались слова "пустота" и "ничто".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Глазами клоуна»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Глазами клоуна» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Глазами клоуна» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.



![Генрих Бёлль - Избранное [ Ирландский дневник; Бильярд в половине десятого; Глазами клоуна; Потерянная честь Катарины Блюм.Рассказы]](/books/103620/genrih-bell-izbrannoe-irlandskij-dnevnik-bilya-thumb.webp)