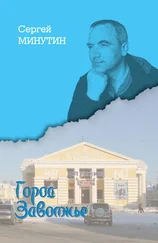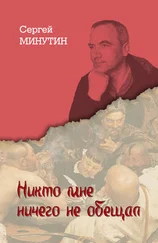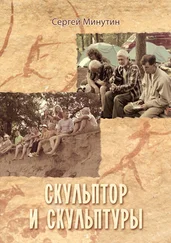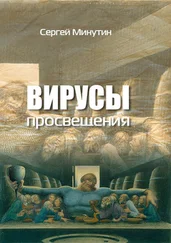Русский человек в первую очередь упорно пребывает в состоянии верующего, даже когда приобретает атеистические убеждения: «атеист не может быть русским, атеист тотчас перестаёт быть русским» (Ф. М. Достоевский «Бесы»)
Запад приходит к атеизму через обмирщение святого. Россия, с одной стороны, утрачивает веру, с другой стороны, возвращается в религиозное состояние через освящение мирского. Это очень глубокий момент, требующий отдельного осмысления. Мы действительно другие, мы особенные. Благодаря этому «все западные идеи, попавшие к нам, перерабатывались и получали самобытную, отличную от первоисточников, форму. У нас и атеизм получился православным, что особенно видно на примере декабристов и большевиков, взявших Нагорную проповедь за образец»
Казаки лучше, чем кто–либо в России, понимают, что утрата понятия целого включает механизм дробления и разрушения. А целое стоит на трёх столпах: «Православная вера, казачьи традиции и российский патриотизм»
Существует распространённое мнение, что не был казак политиком. Да так ли это? В истории России казачество неоднократно не только вмешивалось в политику, но и вершило её. Образовательный уровень казачества, особенно служивых казаков, был выше, чем у русского крестьянина, этими преимуществами в Русской империи казаки пользовались без зазрения совести. Среди депутатов Государственной Думы состояли не только интеллигенты, но и казаки. Они активно занимались обсуждением политически важных вопросов о судьбах казачества, и не только.
Вся казачья жизнь была пропитана политикой. Жить зажатыми алчными и хищными государствами и племенами, преследующими свои интересы и выжить, это — очень высокая политика.
Казаки и их предки почти всегда жили в экстремальных условиях. Без братства, взаимопомощи было нельзя. Оптимальным являлся и обычай самоорганизации. Ведь любой народ можно покорить или рассеять, если разбить его войско, убить или пленить князя, хана — и обезглавленная, беззащитная общность капитулирует или развалится. Но казаки сами по себе в своей совокупности были войском! И даже если в столкновении с врагом большинство погибает, но уцелеет хотя бы трое, то они и будут войском. Могут составить круг, выбрать нового атамана и станут костяком для восстановления своей общности. Откуда и пословица «казачьему роду нет переводу».
Существуют гипотезы, что казаки составлялись из тех, кто удрал от царских репрессий, из беглых преступников, из шаек разбойников, выходивших в степь пограбить. Эти версии не выдерживают критики. Разве правдоподобно, чтобы пострадавшие и обиженные в России проявили такую верность ей, отдавали за неё жизни? Скорее сомкнулись бы с врагами. Наконец, попробуйте представить, возможно ли братство и общая спайка между разномастными разбойничьими бандами? А ведь у казаков это было объединяющим началом — братьями считали друг друга казаки Дона, Днепра, Яика, Терека…
Свой «табель о рангах» — атаманы, есаулы, старшины, формировался у казаков независимо от государственной службы. Он тоже диктовалась жизнью: чтобы при необходимости быстро сорганизоваться, определить, кто из наличных казаков возглавит отряд.
Самоорганизация, самоуправление всегда ставились казаками в основу своей политики. Причём, это очень важно отметить, политики и внутренней и внешней. Сначала всегда велись переговоры, убеждения, и только при признании намерения или замысла большинством иногда применялась сила. Иногда, потому что казаки — братья.
В деле внутренней политики казаки по–прежнему чтят одного из величайших героев Дона — атамана Михаила Черкашина. Судя по прозвищу, он мог быть из украинских казаков, а мог быть и из терских, часто роднившихся с «черкасами»… Черашин был не просто удачливым атаманом. С его именем связано объединение Войска Донского. После падения Астраханиместа у Переволоки стали не такими опасными, исчезла «преграда», разделявшая низовых и верховых казаков. Но потребовалось и объединение другого рода. На Дону и его притоках оседали не только казаки. Были разбойничьи шайки, знать не желающие казачьих законов. Были «самостийные» атаманы, предпочитающие жить сами по себе. Изначальным центром объединениястало низовое казачество. Оно ведь и сложилось в отрыве от России, в случае чего могло рассчитывать только на себя. Поэтому и потребность в сплочении тут была сильнее. И в общую войсковую структурусперва объединялись низовые городки, возникло Нижнее Большое Войско. В 1560‑х — в начале 1570‑х годах было осуществлено вовлечение в эту структуру верховых казаков. Речь ещё не шла о полном слиянии. Но на казачество «всех рек», всех притоков Дона распространялось общее войсковое право, традиция общего круга и обязательности его решений. Для этого велись переговоры с верховыми атаманами и казаками, высылались делегации. Но таких мер оказывалось недостаточно. Подчиняться большинству и стоять заедино выражали желание отнюдь не все. Что ж, в таких случаях казачество не останавливалось перед крайностями. Некоторые городки брались «на щит», смутьянов и самостийников сурово карали. Однако благодаря этому было достигнуто единение, и Дон выстоял в смертельной борьбе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу