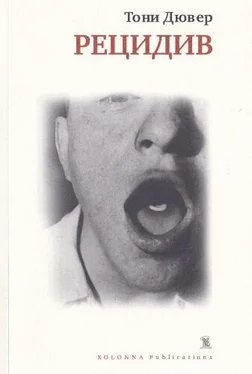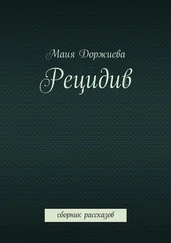Он вскрывает тюбик, нет, два тюбика, купленных в другом городе днем. Раскладывает таблетки на полке умывальника и пересчитывает. Шестьдесят две. Может не хватить. Но красная полоска на тюбиках его успокаивает, а указание максимально допустимой дозы приводит в восторг. Он проглатывает все, запивая водой из-под крана. Стакан, два, пять стаканов воды с металлическим привкусом.
Он ложится, раздевшись, но не полностью: стесняется, что его найдут голым.
Шатается кровать — точнее, пол. Его тошнит, кровать ловко сбрасывает его, а затем, опрокинувшись, ловит метром ниже. Желудок выворачивает наизнанку. Он блюет?
В общем, найду матроса, и это растянется на всю ночь. Он уснет, мне понравится спать в его объятьях, но мы будем заниматься любовью до зари. Руки — вот чего не хватает подушкам. Это совсем другое дело.
Пусть начинает первым, раз уж мне всего пятнадцать. Он наверняка назовет меня своим рождественским подарком, о таком пишут в книгах, и мне страшно хочется это слышать. Почему я не могу понравиться матросу? Если ему и впрямь охота потрахаться, я понравлюсь ему в любом случае, ведь в такие дни руки сами без колебаний тянутся к чему-нибудь свеженькому. Эти удивительные руки так ласковы, я глажу волосы на них, смуглую кожу, мне хочется бездельничать, лежать с ним, прижавшись животами и губами, и даже ничем таким не заниматься, а лишь дремать, словно щенок в корзинке, гляньте на почтовый календарь, кто сверху — он или я?
Я познакомлюсь с ним запросто: один взгляд на выходе из вокзала, мы подходим друг к другу, обмениваемся парой слов и отправляемся в известную ему гостиницу (матросам известны гостиницы). Мы шли под ручку, как настоящие пидоры, и я этим гордился.
В общем, я положу руку ему на талию, обовью поясницу, а он обнимет меня за спину и сожмет мой бок — левый, если будет идти справа от меня, или правый, если слева. И, словно киношные молодожены, мы войдем в роскошный отель и предадимся любви.
Едва заметная вывеска на одной из этих разбитых, плохо освещенных улиц, где гоняются за шлюхами. Вот и дверь номера. Он открывает ее и впускает меня. Но сам не заходит. Запирает дверь на ключ и с хохотом удаляется.
Всякий раз одно и то же. Тело, лицо, я шел следом, потом бросал. У меня разболелись голова и поясница. Когда тебе не дают, ты грустишь. Об этом унынии не рассказывают; оно мучительно отзывается в полостях больного тела, вздрагивающего при каждом резком щипке, потому что это приятно и низменно. Не ахти как приятно, но уже хоть что-то.
В такие мгновения ты играешь с одиночеством, стыдом, бунтом, смертельной опасностью. Все по-своему усиливает боль, которую ты себе причиняешь, даже ложь.
Впредь одного этого удовольствия мне было мало. И если обстоятельства мешали от него отказаться, я мог хотя бы достичь в нем чрезмерности. Возникла потребность собирать кучи вещей, толпы людей и тормошить их с той серьезностью, с какой дети пересчитывают бобы. Но я избавлюсь от этой потребности, от этой серьезности — в надежде, что меня уволокут и раздавят руины, в которые превращаются сами основы жизни, когда человек перестает им потакать.
Я изрядно проучу смерть, ведь у меня ничего не останется для нее; я уступлю ей сущую малость, что хрустнет у нее на зубах, надолго не задерживаясь. Сколько бы я еще ни прожил, у меня хватит ума, чтобы ничего больше не сохранять; мои карманы будут пусты — ни свистка, ни трубки, ни силка для зайчат.
Рассеяться. Лишь горстка пыли, которую можно сдуть. Моя гордыня обратится в эту пыль и одновременно в это дуновение.
Матрос посмотрел на меня. Я был в трусах.
— Ты девственник.
То было утверждение. Я сказал «нет», но он попал в самую точку. Развлечения, которыми я перебивался, трудно назвать сексом. Однако мое тело уже стало искушенным, рассталось со всякой наивностью. Но я, конечно, стеснялся — этого номера, кровати, парня, что был сильнее меня, и ночной поры. Все это я никогда не связывал с удовольствием.
Он проснулся от толчка в животе. Это повернулась кашица из таблеток. Он вскочил, согнулся в три погибели, и его вырвало. Все, что он съел, вышло в виде желтоватой массы, потом — нескончаемые желчные струи.
Громко пыхтя, он наклонился над блевотиной, судорожно вцепился в простыни и стоял неподвижно, как истукан, но не чувствовал облегчения. Затем откинулся назад и отдышался, веки намокли от пота. Смерти нет, ее не вызвать по собственному желанию; нужно ее преследовать, делать авансы, которые она отвергает, проявлять упорство. Он включил свет и попробовал встать, чтобы привести в порядок постель и умыться. Но, едва поднявшись на ноги, снова упал на колени. Он ухватился за простыни. Те выскользнули из рук, липкие от рвоты.
Читать дальше