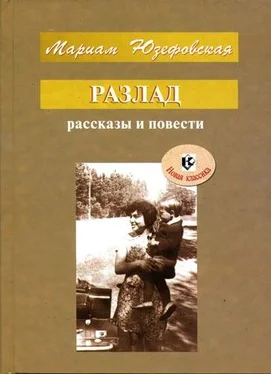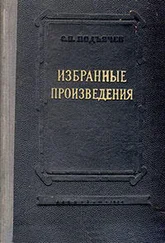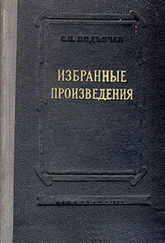Он выбрался из подвала, выглянул во двор. Пурга мела всё злей и злей. «Надолго», – подумал он. С грохотом бросил вязанку у крыльца. Обмёл бурки берёзовым голиком. Входя в дом, громко крикнул: «Мать, накрывай на стол». Олимпиада Матвеевна будто ждала этого окрика. Тотчас засеменила с супницей из кухни. И вдруг остановилась как вкопанная: «Отец, погляди на себя!»
Можейко подошел к зеркалу. Конфедератка с опущенными ушами чуть сбита на затылок. Нагольный полушубок туго обтягивал еще прямые плечи. Синие диагоналевые галифе были заправлены в белые бурки.
– Ты мне знаешь что напомнил? Сорок пятый год. Точь-в-точь в таком обмундировании по районам ездил. Чего я, бывало, не передумаю, пока тебя дождусь. Помнишь, округа так и кишела лесными братьями. А ты без охраны. Только с Петром-шофером. Накрывай, накрывай, а то суп остынет, – насмешливо оборвал жену, – вспомнила бабушка, как в девках ходила.
Он прошел в кабинет. Сел в мягкое кожаное кресло. «Было. Было такое. Земельная реформа в самом разгаре. Брат шел на брата с обрезом, а у нас один пистолет на двоих. В эмке. Если ночь на хуторе заставала – спали по очереди. Ни языка, ни обычаев, ни местности – ничегошеньки не знал. А числился национальным кадром».
Действительно, по паспорту был литовец, а в графе место рождения писал – город Алитус, но где это и что – ни сном ни духом не ведал. Давным-давно из Антанаса Антоном сделался, да и фамилию носил не Мажейка, как отец, а Можейко. Жили в местечке у самой границы с панской Польшей. Первого мая залезали на звонницу, размахивали красным флагом, надсадно, во всю силу молодых глоток орали: «Волность».
В детстве и не подозревал, что чем-то отличается от других. А что лабасом обзывают, так на то и местечко, чтоб у каждого своя кличка была. Рос, как тот чертополох под забором. Да и кому был нужен? Мать помнил смутно. Умерла не то от тифа, не то от голода. Отец с утра до вечера тюкал молотком, был холодным сапожником. Старые опорки, разбитые вдрызг сапоги, запах вара и прелой кожи. В ту ночь, когда по отцовскому указу сучил дратву и строгал мелкие деревянные гвоздики, впервые задумался: «А кто отец?» И тут будто обухом по голове ударило: «Враг. Враг Советской власти». Конечно, и раньше занозой в сердце сидело – частник, да еще и ксёндзов дружок. И раньше не раз и не два слышал, как костерит втихую нынешние порядки. Как цедит сквозь зубы: «Тариба – Советы». Но в ту ночь словно прозрел. С той поры и начал приглядываться, прислушиваться. Каждое отцово словечко словно через сито просеивать. Однажды выследил, как тот под стреху тайком узелок припрятывает. Никому ни слова, ни полслова не обронил. Долго выжидал. Наконец выбрал время, когда отец уехал в город за кожей. Вот тогда и вытащил узелок. А там кругляши металлические. На одной стороне бородатый мужик, на другой всадник со щитом. «Литовские литы! Значит притаился и ждет своего часа!» В тот же вечер резанул напрямик: «Панов дожидаешься!» – и кивнул на то место под стрехой, где был припрятан узелок. Хорошо, вовремя успел увернуться. Сапожная колодка просвистела у самого уха. «Иди, доноси! Доноси, ишгама! Выродок, – повторил он по-русски и с яростью прохрипел: – жаль! Промахнулся!»
Вот тогда и ушел на собственные хлеба. Оторвался от родительского корня и понесло по жизни как перекати- поле. Мыкался по стройкам. Брался за любую работу. Многое перепробовал: был и землекопом, и тачечником, и гвоздодёром. Ломил не щадя себя, еще и других подхлёстывал. В иные дни до барака еле доползал. А вскоре приметили – пошел в гору по комсомольской линии. И даже направили учиться на курсы организаторов. Конечно, возликовал. Вознёсся. Купил себе холщовую толстовку, парусиновый портфель и сорочку с пристегивающимся воротничком…
Можейко усмехнулся: «Молодо-зелено. Решил тогда, что ухватил Б-га за бороду и ворота в рай для тебя настежь открыты. Ан нет! Шалишь! У нас не только из грязи в князи возносят, но и князей в грязь втаптывают. Так-то. Не успеешь оглянуться, а ты уже ничто. Прах, пыль под ногами. Потому и цепляешься зубами, ногтями за своё место. На всё идешь, только бы удержаться…»
Той весной природа словно взбесилась. В мае жара была под тридцать градусов. Буйные гроздья сирени бесстыдно вываливались из-за изгородей, заборов, садовых решеток. Казалось, весь город утонул в их лиловом мареве. Даже в зале, где обычно кисло пахло свинцовым набором, клеем, типографской краской, нет-нет да и врывался тайком, по-воровски через открытые окна дурманящий сладковатый запах воли. Он стоял на трибуне. И сотни глаз смотрели на него. Одни угрюмо-покорно. Другие – с любопытством. Как волновался тогда. Как чеканил торжественно-приподнято слово за словом: «Предлагаю от нашего избирательного участка выдвинуть ближайшего соратника великого Сталина, кристально честного партийца, любимого сына нашего народа – Ежова Николая Ивановича». Он переждал громкие нестройные хлопки, сам хлопал, не жалея ладоней. Чувство праздника нарастало в нем лавиной. Хотелось выплеснуть его туда, в этот хмуро-безразличный зал. Переломить тусклую покорность и извечную усталость изработавшегося люда. «Ура», – бросил он в толпу. И она, словно подчинившись его напору, ответила многоголосым эхом «Ура!»
Читать дальше