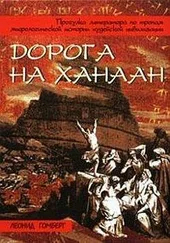Подошла к телефону, набрала номер. Из старой черной пластмассовой трубки доносились длинные гудки. Она долго ждала, бессмысленно глядя на грязную, точно изъеденную лишаем облупившуюся стену. На ней чернели угрюмые коробки электросчетчиков. В их прорезях, словно диковинные рыбки в аквариуме, бесшумно плыли тонкие серебристые, с красными метинами тела дисков. На миг почудилось, будто все это продолжение сна. Внезапно опамятовалась: «Мать ведь телефон отключила». Подошла к рябому, с облезшей амальгамой зеркалу. В волнистом стекле отразилась ее щуплая невысокая фигура, бледное удлиненное лицо, большие серо-голубые глаза, все еще по-детски припухлые губы. Она откинула волнистую, черную, как смоль, челку, положила руку на лоб. Кожа была влажная, в испарине. Дикий страх внезапно обуял ее. Будто снова вернулась в детство, когда в темноте, за крутым поворотом коридора, притаившись на сундуке, ее поджидала соседская девчонка Ксения. Обычно нападала тихо, без звука, как волкодав. Тузила, что есть силы – и внезапно исчезала, словно растворялась во тьме. Тощая, длинная, плоская, точно складной плотницкий метр. Безжалостные синие глаза в коротких белых ресницах всегда зло прищурены, поцарапанные кулаки крепко сжаты.
И был еще страх – Федорчук. Сухощавый, высокий, шинель внакидку, он шел по коридору, четко печатая шаг. А рядом с хозяином, слева, на коротком поводке клацала когтями злобная овчарка Прима. По вечерам Федорчук варил для нее в громадной алюминиевой кастрюле похлебку из требухи. И тогда из кухни вываливались и плыли удушающе-сладковатые запахи.
В комнате, где жила семья Федорчука, было всегда так тихо, словно все в одночасье вымерли. Ни трех девочек-погодков, ни тихой бессловесной жены – не было слышно. Лишь изредка кто-нибудь из них бесшумно прошмыгивал по коридору. А у дверей комнаты Федорчуков возилась и протяжно вздыхала привязанная к металлическому кольцу Прима. Но стоило Окте пройти мимо, как овчарка словно пружина распрямлялась, вскакивала, натягивая до предела кожаный поводок. Повиснув на ошейнике и перебирая лапами, она яростно хрипела. А глаза наливались таким кровавым туманом ненависти, что Октя мгновенно каменела от страха.
Боялась когда-то всего этого до икоты, до дрожи. Потом, когда выросла, многое, конечно, сгладилось, а после и вовсе забылось. Но сейчас эта волна страха вновь накатила на нее. Через силу умеряя шаг, она прошла к себе в комнату. Поспешно, словно к ней вот-вот должны были вломиться, повернула на два оборота ключ. Стояла, прислонившись к косяку, и чувствовала, как гулко, у самого горла бьется сердце.
Она подошла к окну. Когда-то здесь, на широченном мраморном в голубоватых жилках подоконнике было ее убежище. Скорчившись, пряталась за пыльной тяжелой портьерой с бархатистыми бомбошками. С тоской глядела в глубокий колодец двора. Завидовала всем, даже бродячему коту, который, вольно развалившись в чаше давно разоренного фонтана, грелся на солнце. Ее в ту пору отправляли гулять под надзором вечно простуженной фребелички. «Дети, назад», – то и дело раздавался грозный окрик, после чего следовало трубное сморканье в клетчатую салфетку. Дети в возрасте от четырех до семи, вялые, точно проросшие в подполье картофельные ростки, покорно усаживались на скамью и среди них она, Октя, самая старшая, почти девятилетняя, с тугой длинной черной косой. «Ребенок ослаблен. ТБЦ», – скорбно поджимая губы, тетя Женя напрочь отсекала все разговоры о школе. В ту пору ее маленькая крепенькая ручка твердо держала вожжи Октиного воспитания. Три раза в неделю были уроки музыки. Как агнец, гонимый на заклание, Октя пересекала этот двор, мощенный плитами. Быстрее, быстрее к арке, в полумрак подъезда, где пахнет сыростью и кошачьим выгулом. Громадная черная папка для нот болтается на витых шнурах, бьет по щиколотке. Ветер взметает и без того короткую юбчонку, открывая взорам всего двора отделанные кружевом штанишки. А сзади, словно переодетый конвоир, твердой походкой следует тетя Женя. Шляпка тонкой рисовой соломки кокетливо сдвинута на левую бровь. Губы обведены малиновым бантиком. Маленький с легкой горбинкой нос густо напудрен. Но взгляд суровый, сторожащий. От него нигде не укрыться.
И еще дважды в неделю кроткая Елена Михайловна, соседка по квартире, учила ее рисованию. Никаких переодеваний, езды в грохочущих трамваях под надзором тети Жени. Все было просто и обыденно. В домашнем платье, тапочках, зажав в руке тощенький альбомчик и гремящую коробку карандашей «Радуга», Октя бежала в самый конец коридора. Но не туда, где была потаенная коричневая дверь, над которой висел номерок с двумя нулями. Где частенько отсиживалась среди швабр, веников, ведер, хотя с ржавого железного бачка то и дело падали за шиворот крупные ледяные капли. «Октя, ты еще долго?» – Строгий холодный стук костяшками пальцев в дверь. Тетя Женя настигала ее и здесь.
Читать дальше


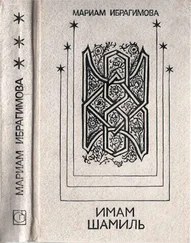

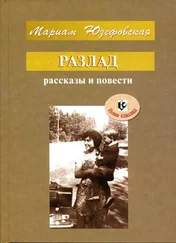
![Мариам Петросян - Дом, в котором… [Издание 2-е, дополненное, иллюстрированное, 2016]](/books/62844/mariam-petrosyan-dom-v-kotorom-izdanie-2-thumb.webp)
![Фредерик Пол - В поисках возможного [В поисках возможного завтра]](/books/87403/frederik-pol-v-poiskah-vozmozhnogo-v-poiskah-vozmo-thumb.webp)