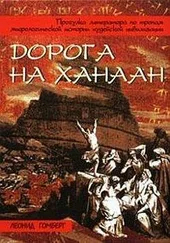Но с чем Зоя Петровна не могла свыкнуться, так это с городом. Здесь все было ей враждебно, даже его имя — Кёниг. Она ходила по разрушенным улицам, стараясь не замечать ни оголодавших немцев с их серыми лицами и пустыми, безразличными ко всему, кроме еды, глазами, ни изможденных пленных, разбирающих развалины. И если случалось сталкиваться с кем-нибудь из них взглядом, то обжигала такой ненавистью, что те, съежившись и потупившись, старались быстрее проскользнуть мимо.
А город все больше и больше заселялся пришлыми. Тут оседали демобилизованные солдаты, сюда эшелонами прибывали вербованные со всех концов страны. И хоть их уже не встречали с оркестром, но ставили на довольствие и размещали по квартирам, выгоняя при этом немцев из их домов с крохотными узелками и переселяя в подвалы, мансарды, а то и в развалины.
Казалось, Кёнигу до прежних хозяев не было никакого дела. Весной 46-го по указу из Москвы его переименовали. От прошлого победители, словно в насмешку, оставили лишь заглавную букву. И город начал меняться на глазах. На месте старого немецкого кладбища разбили парк. За месяц снесли все старые памятники. Вместо них из Москвы специальным составом привезли новые скульптуры: монументы вождей, «Пионерку со знаменем», «Толкание ядра». А потом заменили названия улиц.
Вскоре и немцы начали исчезать. На этот счет ходили опасные слухи — будто каждого четвертого косит голод, а оставшихся по ночам в товарняках вывозят в казахстанские степи. Шептались, что мужчины помоложе бегут в соседнюю Литву, где вливаются в банды зеленых братьев, держащие до сей поры в страхе хутора и местечки. В конце концов от коренных жителей остались считанные семейства, да и те ютились на окраинах.
Георг Шульц в этот город прибыл в 46-м году. Но не в эшелоне, как другие вербованные, а литерным поездом, в купе с кожаными диванами и шелковыми занавесками. Его поселили неподалеку от кафедрального собора, в уцелевшем одноэтажном особнячке, обсаженном угрюмыми черными елями. И Даша, подрядившаяся туда носить молоко, расширив от восторга глаза, рассказывала о всяких чудесах в этом доме: горящей, словно огонь, медной посуде, развешанной на крюках над плитой на кухне, блестящих, скользких как лед узорных плитках, которыми были выложены пол и стены, а также строгой неулыбчивой старухе-немке Амалии, затянутой в туго накрахмаленный белый передник, которая заведовала хозяйством и ни слова не понимала по-русски. Но больше всего ее поразил мальчик лет пяти с нерусским именем Вилик. С легкостью перескакивая с одного языка на другой, он стал посредником между ней и немкой. Через него Даша доподлинно выяснила, что Амалия — человек нанятый, что за «самим» по утрам присылают машину с шофером, а «сама» — балерина, танцует в театре и бывает в семье наездами.
Так через Дашу и состоялось заочное знакомство с семьей Шульц. И Симочка, точно предчувствуя будущее, требовала от нее мельчайших подробностей об этом доме. А Даша, знающая особняк лишь с черного хода, потому что ее дальше не пускали, желая угодить и удержать Симочку подле себя, рассказывала разные истории, порой сама уже не отличая правды от вымысла. Об узорных паркетных полах, о люстрах, тихо позвякивающих своими висюльками, о громадных оленьих рогах, висящих на стене в прихожей. А главное, о Вилике: о его коротких, по колено, брючках, полосатом жилетике и сверкающем никелем небольшом велосипеде с заливистым звонком.
Наслушавшись этих рассказов, Симочка однажды, привалившись к круглым крепким коленям соседки и заглядывая ей в глаза, тихо спросила:
— Дашуня, — она называла ее Дашуней, отчего та, не привыкшая к нежностям, становилась мягкой и податливой как воск, — как ты думаешь, этот мальчик захочет на мне жениться? Я ведь некрасивая.
— Ты?! Некрасивая? Кто тебе это сказал, ясочка моя?
— Мама, — с тихой печалью поведала коварная Симочка.
— Мамка твоя не зная, че несет. Сама как монашка ходит, дульку скрутит на затылке — и ладно. Ну что ж, что седая. Обрезала б свои космы, сделала перманент, покрасилась. Молодая еще баба, — искренне возмутилась Даша, — ни тебе помадки, ни румян. И на тебя напраслину возводит, ясочка моя. Да ты глянь на свои глазки, на кудряшечки, на губки бантиком, — запричитала Даша и подвела девочку к зеркалу.
Симочка встала, подбоченившись, гордо посмотрела на свое отражение.
— Увидишь, Дашуня, — уверенно сказала она, — этот мальчик станет моим мужем. И ты еще будешь плясать на нашей свадьбе.
Читать дальше


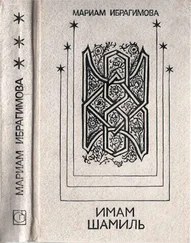

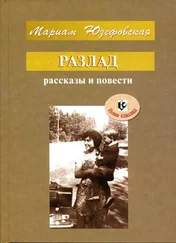
![Мариам Петросян - Дом, в котором… [Издание 2-е, дополненное, иллюстрированное, 2016]](/books/62844/mariam-petrosyan-dom-v-kotorom-izdanie-2-thumb.webp)
![Фредерик Пол - В поисках возможного [В поисках возможного завтра]](/books/87403/frederik-pol-v-poiskah-vozmozhnogo-v-poiskah-vozmo-thumb.webp)