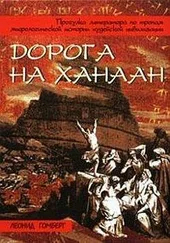– Ты? – Сонно спросил Альгис. Октя почтительно поклонилась:
– Вы здесь? Чем обязана? Это такая честь для меня, – она лепетала жалкие бессвязные слова, приседая в низком реверансе, стараясь поймать на лету и поцеловать руку.
Альгис в ужасе отступил. Сквозь вязкий туман своего безумия она заметила этот ужас. Прочла его в глазах, в дрожании рта. И, прижав палец к губам, прошептала:
– Не бойтесь, я не скажу никому, что вы здесь. За мной тоже гнались, я ускользнула. – Она искательно улыбнулась. Сын отступал все дальше и дальше вглубь квартиры. И тогда гневно выкрикнула:
– От кого вы прячетесь? Вы всех обманули. Вы крутитесь, ловчите, а в душе у вас страх.
– Что с тобой? – Прошептал Альгис.
Октя замерла на миг, вслушиваясь в этот дрожащий голос. Несколько секунд стояла, опустив глаза, прислонясь к стенке, словно пытаясь осмыслить происходящее. Внезапно злобно сощурилась:
– Вы и меня боитесь! Думаете, я вас шарфом? Как вы когда-то своего отца? – Насмешливо спросила Октя. – Но мне не нужен ваш скипетр! Слышите? – Она кинулась к шкафу. Начала выдвигать ящик за ящиком, выкидывая на пол перчатки, шапочки, зонты, что-то бормоча и всхлипывая.
За ее спиной послышались тихие вкрадчивые звуки. Она резко обернулась. Гулко хлопнула входная дверь. По ступеням застучали, загромыхали шаги.
– Куда же вы? Чего вы испугались? Вот он, мой шарф! Им же нельзя задушить! – Крикнула вдогон Октя. Она повертела в руках крохотный шерстяной шарфик, который когда-то повязывала сыну, и беззвучно засмеялась.
Октя вернулась из больницы в начале лета, когда бледно-желтые восковые чашечки липового цвета едва успели раскрыться. Но их сладковато-приторный запах уже плыл по улицам, смешиваясь с запахом пыли и пожухлой, привядшей от жары травы. Истомленные послеполуденным зноем улицы казались сонными, притихшими. Она радовалась их безлюдью. Шла, не поднимая глаз. Казалось, редкие прохожие, идущие ей навстречу, настороженно косятся в ее сторону, стараются обойти стороной. Жалась к домам, к их стенам, источающим накопленный за день жар. Изредка из угрюмых арок подъездов старых приземистых особняков тянуло застоялой сыростью и прохладой глубокого погреба. И тогда она вздрагивала. Пугливо вглядывалась в их черные провальные утробы. Конфузливая дрожащая улыбка казалась застывшей, приклеенной на ее бледных губах. Она мало изменилась за время, проведенное в больнице. Быть может, стала бледней обычного, да иссиня-черные волосы, которые всегда отливали блеском, сейчас казались тусклыми, безжизненными и висели слипшимися прядями. И еще – больничный запах. Он витал вокруг нее, забивая нос, гортань. Там, в палате, она к нему давно притерпелась, свыклась. Но лишь только вышла на волю, вздохнула полной грудью, как почувствовала, что обернута, туго запелената, точно в кокон, – в этот затхлый запах сиротства, несчастья и болезни.
Квартира встретила ее запустением и тишиной. Она знала, что Альгис уехал на все лето в стройотряд. Но это ничуть не огорчало. Напротив, после всего того, что произошло с ней, со страхом думала о жизни с сыном. Он приходил к ней в больницу. Но там, на виду у чужих людей, в комнате, где стояло равномерное гудение улья от приглушенных голосов, можно было не глядеть друг на друга, обмениваться ничего не значащими словами, умалчивая о том страшном, что неотступно мучило обоих.
«Ничего не поделаешь, – обреченно думала она, – мальчик хочет быть таким, как те, кто его окружает. Даже букашка стремится в минуты опасности слиться с травой. Не каждому под силу прожить свою жизнь «чужаком». – «А ты смогла, за что и расплачиваешься», – хихикал насмешливый голос. Октя покорно опускала голову.
Многое из того, чем владела раньше, теперь, после больницы, показалось ей несметным сокровищем. Главное – свобода! Когда твердо знаешь, что за каждым твоим шагом, за выражением твоего лица – никто не следит. Когда по тебе то и дело не скользит равнодушный сторожащий взгляд надзирателя. И еще – тишина! Она слышала в ней собственное дыхание. Иногда ночью просыпалась от этой тишины. Чутко прислушивалась. Ей чудились больничные звуки: шарканье шагов, тихий звон ключей, скрип двери. Она тотчас сжималась в комок, пряталась с головой под подушку. Проходила минута, другая, и Октя со щемящей, взмывающей вверх радостью тихо шептала себе: «Очнись! Очнись! Ты на свободе!» Утром все это отступало, уходило прочь. Ночные страхи казались глупыми, смешными. В ярком свете дня она чувствовала, как исподволь, нить за нитью ее начинают связывать с жизнью новые желания и привычки. Точно судьба, смилостивившись, вновь натягивала ту прочную основу, из которой ткется полотно бытия.
Читать дальше


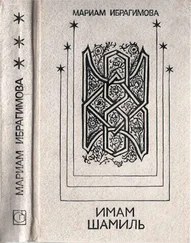

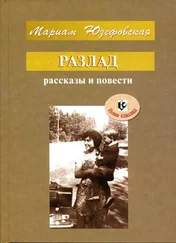
![Мариам Петросян - Дом, в котором… [Издание 2-е, дополненное, иллюстрированное, 2016]](/books/62844/mariam-petrosyan-dom-v-kotorom-izdanie-2-thumb.webp)
![Фредерик Пол - В поисках возможного [В поисках возможного завтра]](/books/87403/frederik-pol-v-poiskah-vozmozhnogo-v-poiskah-vozmo-thumb.webp)