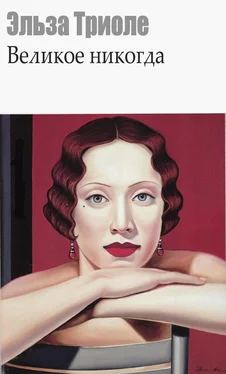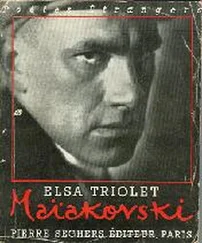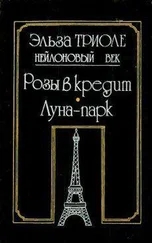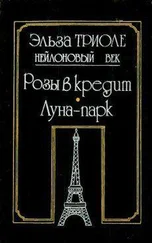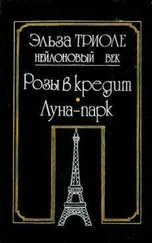Постель была холодная, сырая… Мадлена поднялась, надела шерстяной свитер, пижамные штаны… Скоро станет лучше. Вот и стало хорошо, очень, очень хорошо, она теперь согрелась, а в открытые окна вливались все те же влажные запахи, ради которых она проехала шестьдесят километров. Надо было бы снять с постели покрывало, тяжелое штофное покрывало, так было бы еще лучше. Этот старик… Мадлена рассердилась, потом рассмеялась одна, в темноте… Прямо кино! Она уже засыпала, радуясь, что кругом сухо и тепло, как вдруг вспомнила про звонок Бернара… Просто мелкий предатель со всей своей возней вокруг Режиса, мелкий предатель, вот он кто. Она начала напряженно думать о Режисе… Вспомнила его голос, вспомнила, как он произносил слово «предвечный», будто хотел сказать просто «старик». Представила себе его в постели рядом с собой. Да, он любил повторять, что человек взвалил на бога понятие вечности, что ему достаточно назвать бога предвечным и сразу становится легче — будто сбросил груз непостижимого. Постоянная человеческая лень… «Мадлена, моя Лонлэн…» Она так ясно представила себе его голос, взгляд фаянсово-синих глаз, манеру сбрасывать разом обе ночные туфли, подкидывая их высоко в воздух, что с головой забилась под одеяло и заскулила, как щенок. Режис пользовался богом лишь для того, чтобы полнее изобразить человека, это была, так сказать, лишь метафора, но Бернар казался столь убежденным в своих выводах, что она решила проверить, кто из них прав. В действительности этот вопрос никогда и не ставился, бог не интересовал Режиса, он говорил о нем несерьезно. Вот людьми он интересовался, несчастными людьми, зажатыми в тисках мифического прошлого я мифического будущего, в тисках предыстории и постистории. По мере того как человек продвигается все дальше во времени, его история становится все длиннее, предыстория отступает, стушевывается, застывает как следы преступления; зато постистория удаляется, ибо человек ныне видит, предвидит дальше и оттесняет неведомое на более далекие дистанции. Но каков бы ни был отрезок познанной истории, он всегда о двух концах — и спереди, и сзади непознаваемое, бесконечность. Нет, никогда в рассуждениях Режиса не было речи о боге, по крайней мере, когда он шутливо рассуждал специально для Мадлены, для ее «маленьких ручек», слишком маленьких, чтобы взять октаву. Говорил он о круге и о шаре, о человеке, который кружит по кругу. Если бы человек не обнаруживал время от времени одних и тех же пейзажей, одних и тех же ориентиров, не находил бы нигде ни конца, ни начала, он оказался бы в бесконечности. «Впрочем, — говорил Режис, — величайший прогресс человека заключался бы в том, чтобы оставаться в своих пределах. Если бы он просто обрабатывал собственный, наглухо обнесенный забором надел, он добился бы неслыханной отдачи. Я не осуждаю величие ума, — говорил Режис, — даже человек примитивный любопытствует, ищет. Любопытство — вот что лежит в основе любой человеческой деятельности…» Нет, не оставалось места для бога в рассуждениях Режиса, «предвечный» он писал с маленькой, а не с заглавной буквы. Мадлене стало совсем тепло. Странно все-таки, почему это все заинтересовались писаниями Режиса, ведь сам он относился к ним довольно бесцеремонно… А тут в них обнаружили вдруг и бога и гениальность. В свое время она одна считала его гениальным. Тогда, когда любила пылко и исступленно все, что исходило от Режиса, что было Режисом: его руку, походку, звук его голоса… когда, как святыню, хранила окурки, остававшиеся в пепельнице, и не делала исключения для его трудов. Но вот, шутки ради, он подписал своим именем Режис Лаланд ее выдумки… Мадлена не смеялась с ним вместе. Это стало началом конца… Выдать ее импровизации насчет Екатерины II за научный труд… А она так благоговейно относилась к его писаниям. Он сам всегда все разрушал. Когда в начале их любви она буквально теряла голову от восторженного обожания, он похлопывал ее по плечу, чтобы привести в себя, смотрел на нее с улыбочкой… и до сих пор ее жжет стыд, что она не умела сдерживаться перед ним. Она научилась владеть собой, скрывала то, что Режис называл ее «порывами». Он разрушил все, даже физическую любовь. Жить в одной скорлупе и оставаться двумя, двумя не слившимися воедино ядрышками. А она-то думала, что можно слиться воедино, но Режис похлопывал ее по плечу, ей становилось стыдно, и она решила скрывать свои чувства. Скрывала до тех пор, пока не растеряла. А Режис, он был непроницаем. Он разрушал все, хлопая ее по плечу, — опомнитесь, мадам! С тех пор и она поднимала к нему безмятежно спокойное лицо и тоже стала непроницаемой, и она тоже. В те времена, когда она так любила его, Режис был для нее сверхчеловеком, а возможно, глаза любви проницательнее, чем глаза, затуманенные печалью, злобой, разочарованием? Ведь обнаружили же в нем чужие люди, ученые, эксперты черты гениальности. Она первая их заметила, а потом перестала придавать этому значение… Но что бы там ни было, никогда она не видела, не ощущала в том, что писал или говорил Режис, присутствия бога. Правильно выразилась крестная: «Что ищут, то и находят». Одержимые… Мадлена положила руку на подушку, уткнулась щекой в ладонь и заснула.
Читать дальше