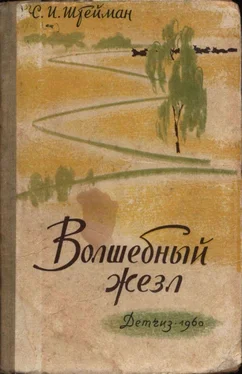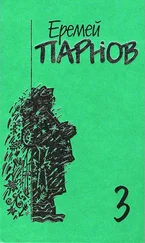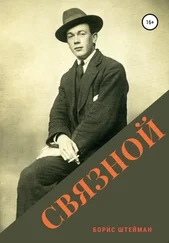В это время из дома вышел поручик, маленького роста, на кривых ногах, франтоватый и тщедушный.
— Хороший конь, ваше благородие! — обратился я к поручику.
Он зло покосился на меня недобрым глазом и взвизгнул:
— Леший, а не конь! Вот я его! — и попросил подержать коня под уздцы.
Едва поручик приблизился к нему, конь вздрогнул и снова заржал, но на этот раз в его ржании уже не было ни радости, ни ликования. Глаза животного стали настороженными и злыми и неотступно следили за тщедушной фигурой офицера.
Поручик зашел сзади и положил руку на шею коня, чтобы вдеть ногу в стремя. Но конь, почувствовав его прикосновение, весь передернулся, будто пронзенный электрическим током, и взметнул задние ноги. Поручик насилу успел отскочить.
— Вот дьявол, — сказал, разозлившись, он и, скверно выругавшись, хватил коня нагайкой.
Конь отпрянул в сторону. Поручик снова изо всей силы ударил его, потом еще раз и еще. Замотав головой, конь старался вырвать уздечку из моих рук.
— Держи, держи, каналья! — заорал на меня офицер. — Я его, сукина сына, вышколю!.. — Он совсем озверел, этот маленький, уродливый вояка. Не стыдясь своей жестокости, он бил коня кулаком в морду, норовил ударить его сапогом в пах.
— Ваше благородие, — сказал я, — этак вы никогда коня к себе не приучите, ведь животное злых не любит.
— Молчать! — заорал на меня офицерик. — Молчать, мерзавец! Учить вздумал! На гауптвахту захотел?..
Я выпустил уздечку, и разъяренный конь ускакал в поле. Через два часа меня увели на гауптвахту.
Гауптвахта помещалась в подвале. Там было темно, свет просачивался только через маленькое окошечко из коридора. Я увидел деревянные нары и спящего на них солдата с кудлатой бороденкой. Каменные стены были сырыми и холодными.
Я лег на нары, рядом со спящим солдатом; он лежал, скорчившись как ребенок и укрывшись с головой шинелью. Было слышно, как он что-то жалобно бормочет во сне.
Утром я проснулся от холода и сырости и первое, что увидел, — серые каменные стены, а по ним, словно слезы, стекали капельки влаги.
Солдат, спавший рядом, высунул из-под шинели голову. Он оказался пожилым человеком, лицо его было все в мелких морщинках и оспенных рябинках. В кудлатой бороденке запутались соломинки.
— Нет ли махорочки, сынок? — спросил он.
Повздыхав оттого, что махорки у меня не оказалось, он спросил:
— За что упекли?
Я рассказал.
Выслушав меня, солдат поскреб рукой грудь в вырезе рубахи, вздохнул и сказал неодобрительно:
— За скотину заступился, значит. А за человека кто заступится?
Он спустил с нар ноги, сел, пошарил рукой в кармане, выскреб оттуда горсточку хлебных крошек, смешанных с табаком и пылью, попробовал отделить крошки и пыль от табака, но, убедившись, что на закрутку все равно не хватит, махнул рукой и опять тяжело вздохнул:
— Человека довели, проклятые до того, то он стал хуже скотины. Скотина того не стерпит, что человеку приходится терпеть. И нет у человека заступника.
Солдат говорил сурово, явно осуждая меня за то, что я заступился за животное, и чувствовалась в его словах глубокая, давнишняя боль, которую ему хотелось теперь высказать.
— Вот поехал я на побывку, — продолжал солдат не спеша, — посмотреть, как в родимой сторонке живут. Ну, а как повидал, так еще горше стало.
— А вы откуда, папаша?
— Мы дальние, — ответил солдат, — костромские. Про Кострому-то слыхал? Братец у меня там: у енеральши Усовой в батраках живет, в усадьбе «Караваево». Да только, я тебе скажу, лучше в дремучем лесу жить с волками да с медведями, чем батраком у этой енеральши жить. Гнут они там спины с зари до зари, а харч такой, что не то что мужику али бабе, а маленькому ребеночку и то с голодухи брюхо подведет. Да что там говорить!..
Он опять вздохнул, сплюнул на грязный каменный пол и опять почесался. Глаза его вдруг стали тоскливыми, будто заволоклись какой-то болезненной пленкой.
— Охо-хо, — сказал он, — приходят, значит, они обедать. Приносит им стряпуха похлебку с говядиной. А у них, сердешных, слюнки текут — в коей-то век их говядиной потчуют. Но, как только миску на стол поставили, чуют, будто воняет. Зачерпнули в миске кусок говядины — глядь, а там аж черви!
Пошли к управляющему, поклонились ему в ноги, говорят: «Так, мол, и так, господин управляющий, невмочь нам такое мясо есть, чай мы люди, а не собаки!» А управляющий им: «Ах вы такие-сякие, жрите что дают! А если не нравится, идите на все четыре стороны!» А они отвечают: «Некуда нам идти кроме, как на тот свет. Побойся, — говорят, — бога. Отравишь людей — перед законом в ответе будешь!» «Ах, так, — кричит управляющий, — грозитесь? А вот я сейчас вызову господина исправника, засадит он вас всех в холодную, узнаете тогда, на чьей стороне закон!» Что им, сердешным, делать? Они к барыне. А барыня как раз вышла в сад погулять. В руках у нее зонтик, а позади бежит ейный любимый мопсик. А харя у того мопсика, ну ровно, прости господи, что у дьявола. Батраки, значит, на колени. Бухнулись они ей в ноги и показывают миску с говядиной: «Посмотри, мол, матушка, наша барыня, посмотри, чем твой управляющий православных людей кормит!»
Читать дальше