В полночь в гостинице «Семирамида» дыхание Нила мягко приоткрыло моё окно. В пустоте ночи круглая луна легко балансировала на пышной листве банана.

– Эх! Эх! Эх! – доносились ночные гафиры, 30окликая одна другою.
Затем я проглотил луну, пока её не украли, подумав, что подкрепиться никогда не поздно, настолько я был зачарован этим соревнованием арабских сладостей.
XVI. Прогулка с моей матерью по пляжу старого порта
В один из обычных январских египетских дней, медлительных, мягких, экстатических и золотистых, я отправился навестить Константиноса Кавафиса, 31знаменитого греческого поэта, отдававшего предпочтение своей родной Александрии перед своими далёкими и отвлечёнными Афинами.
Он с воодушевлением рассказывал мне об известном итальянском публицисте Катраро 32пока я обдумывал и оценивал причины исторической ностальгии, могущие связать душу поэта с лазурным полукругом Старого Порта, теперь заброшенного, но когда-то заполненного роскошными двухмачтовыми галерами.
Это была одна из тех вечерних прогулок, какие так любила моя мать, и в которых я, тогда шестнадцатилетний, сопровождал её, стараясь согласовывать свои мечтательные шаги с её решительной и торопливой поступью. Казалось, что она гналась за своими горестными воспоминаниями; я был зачарован пламенеющим закатом, мастером войны и героизма, раз за разом разыгрывавшим всевозможные сцены сражений облаков, пурпурной кавалерии, залпов солнечных лучей, крушения золотых замков и т. п.
Нас осаждало ужасное зловоние огромной скотобойни, лиловатой лачуги, заваленной окровавленными шкурами, кучами отходов в сопровождении раздражённого мычания. Мои ноздри помнят отвратительное дыхание всемогущей смерти в этом зловещем пейзаже, посреди теней призрачного стада, испугавшегося арабов в чёрных юбках и шлёпанцах, проходивших мимо по берегу, вдоль сверкающей воды. Теперь огромной скотобойни больше нет, просторный мощёный причал, защищённый бетонными блоками, позволяет без труда подойти к римским развалинам, выступающим из синей морской глубины.
Свежая летучая морская соль горьких воспоминаний. Дерзкий шёпот пены, подстрекавший меня в детстве к нырянию. Два наших эбеновых профиля на фоне светящегося неба из белой мастики, выделяющиеся на розовом ногте пальца одной из двух рук Старого Порта. Другая рука выдвигает далеко в открытое море форт Кайд-Беи 33древнее строение, белёсое и обветшавшее, которого, вероятно, не замечали мечтательные глаза Кавафиса, поскольку перед его взором высился когда-то стоявший на его месте древний маяк, одно из семи чудес света.
– Вернёмся домой, Том! – сказала мать.
– Вернёмся назад, – говорю я сейчас моему спутнику. Внезапно мутный закат превращается в огромную скотобойню прежних времён, дымящиеся красноватые внутренности вываливаются наружу над банановой плантацией, испепеляя её изумрудные листья.
На перекрёстке я обнаружил целый геометрический лабиринт сооружений английской караульной службы и ступеньки, которые я, возможно, видел ещё в детстве, и которые остались в памяти, как и балки балкона в моём отчем доме. Этот шум голосов школьников и куриное кудахтанье доносятся до меня из сегодняшнего дня, или из далёкого прошлого? Над минаретом и муэдзином, уже поглощёнными ночной тьмой, высится пальма, благословляющая порог дома поэта Кавафиса.

XVII. Греко-египетский поэт Константинос Кавафис
Вот он, маленькая седая голова умной учтивой черепахи, тщедушные руки, гребущие откуда-то из глубины вечной греко-римской тени, тёмно-красный бархат и покрытые вековой пылью картины.
Также расшиты золотом тёмно-красные панталоны слуги суданца, подающего мне бокал виски с содовой и традиционное мезе , 34из греческого сыра. Угощаясь тем и другим – он неторопливо, подобно аркадскому пастуху, а я, напротив, как будто мне нужно куда-то бежать – мы ведём беседу о поэзии будущего.
Кавафис хвалит футуристическое движение, но при этом объявляет гигиенической свою «символическую интерпретацию исторических периодов, на которые делится наше бренное существование».
Он добавляет:
– Эта интерпретация, лишённая старого метра и рифмы, должна иметь форму верлибра.
Читать дальше
![Филиппо Маринетти Очарование Египта [litres] обложка книги](/books/437053/filippo-marinetti-ocharovanie-egipta-litres-cover.webp)



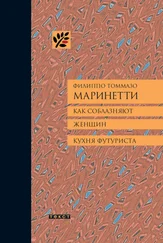




![Филиппа Грегори - Дорогами тьмы [litres]](/books/419315/filippa-gregori-dorogami-tmy-litres-thumb.webp)
![Хелен Анделин - Очарование женственности [litres]](/books/437792/helen-andelin-ocharovanie-zhenstvennosti-litres-thumb.webp)
![Алла Демченко - Очарование лжи [litres]](/books/438609/alla-demchenko-ocharovanie-lzhi-litres-thumb.webp)


