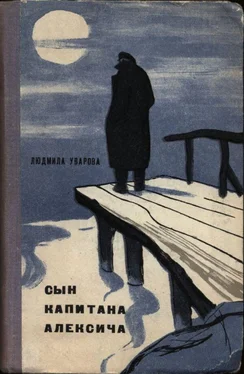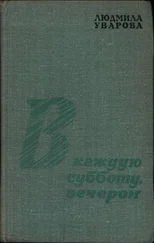Я узнала, мне даже кровь в голову бросилась. У него этих шестеренок сколько душе угодно, а ежели надо, ему еще в МТС отпустят. Что, думаю, с человеком сделалось? Корреспонденты к нему ездят, аппаратами щелкают, в каждом журнале, в каждой газете про него что ни день пишут, он даже особый альбом завел, туда все статьи о себе и фотографии собирал, кричат о нем на все лады, а какой он на самом деле, какая в нем сущность, так никто распознать не может.
Хотела я ему все как есть высказать, да не вышло: он в тот раз такой усталый с поля приехал, пожалела его, промолчала. Так ничего и не выговорила, а надо бы было.
Ну, подходящего случая для ссоры долго ждать не пришлось. Наш дом в конце улицы стоял. А на той улице по весне и осенью грязь непролазная, почти что по колени. Он взял да потребовал, чтобы дорогу от конторы до его дома засыпали галькой. Не всю улицу, а только одну стежку, до его дома, чтобы для него и его семьи все удобства были соблюдены.
Что ж? Разве Петухов в то время мог ему в чем-либо поперечить? Так по его и вышло.
Иду это я к вечеру домой с поля, гляжу, в середке проложена дорожка до самого нашего дома.
Люди идут, усмехаются: «Нашему прынцу ни в чем отказа нет!»
А я, признаться, смотрю на дорожку эту самую, ничего понять не могу, спасибо люди помогли, растолковали.
Ну, думаю, это уж действительно из рук вон!
Мне за детьми в ясли идти, обед готовить, корову доить, а я обо всем позабыла, бросилась обратно в поле, к нему.
Прибегаю, слышу издали, его комбайн рокочет. Я рукой машу, он меня заметил, остановился. Выходит ко мне, бледный, себя не помнит.
— Что случилось? — спрашивает. — Дети здоровы? — У самого губы дрожат и глаза растерянные, страхом налитые. Мне его даже жаль на минутку стало. Но я свою жалость в сторону.
— Нет, — говорю. — Дети здоровые, ничего с ними не случилось, а вот ты, по-моему, заболел, да гляди-ка, как бы совсем не свалился!
И все ему напрямик и выложила, ничего не утаила, и про альбом с фотографиями да статьями, и про шестеренки, которые он дать отказался, и про эту самую дорожку от дома к конторе.
Он выслушал, ни слова в ответ, только молча глядит на меня, и глаза у него совсем темные сделались, а так они у него серые, с прозеленью.
Потом говорит:
— Это еще что с тобой? Я дни и ночи работаю, себя не помню, а ты, выходит, не жена мне, а вроде самого злейшего врага, ищешь, к чему бы прицепиться, за что бы уколоть больнее.
А я не слушаю его, гоню дальше.
— Работаешь, — отвечаю. — Верно, что тут говорить, тебя от комбайна железным тросом не оттянешь. А для кого работаешь? Для чего стараешься? Для себя одного, для славы своей, чтобы надо всеми подняться, чтобы о тебе говорили и писали, чтобы лучше всех быть, самым первым. Вот для чего!
Повернулась и бросилась домой. Бегу по проклятой этой дорожке, галька хрустит под ногами, а мне сдается, не по гальке бегу, по стеклу битому босыми ногами ступаю. Добежала, взяла ребят, кое-что из одежды и прямехонько к маме, — отец у меня в ту пору уже умер. Прибегаю к ней.
— Мама, прими нас, мы все к тебе.
Она аж руками всплеснула:
— Да ты что, сдурела?
Потом все же поняла меня, я ей все как есть порассказала, выслушала меня, говорит:
— Что ж, живи у меня, если тебе так лучше.
День живем, он не приходит, на второй явился. Стал в дверях.
— Долго так будет? — спрашивает.
— Хоть всю жизнь, — отвечаю.
Гляжу, усмехается:
— Далеко загадываешь, как бы не прогадать.
— Да так уж, — отвечаю. — Пока ты таким будешь, не хочу с тобой жить, потому совестно мне за тебя людям в глаза глядеть.
Он даже потемнел весь, но сдержался.
— Совестно, говоришь? Тогда больше не приходи домой, и знать тебя не хочу!
Дверью хлопнул, только и всего. Прошумели за окном шаги, и все стихло.
Мать с печки говорит мне:
— Ксюша, подумай…
А я говорю:
— Все уже обдумала, нет мне пути обратно.
Конечно, все в селе про эту нашу историю узнали. Кто меня винит, а больше все-таки его. Многие его у нас невзлюбили, ну, а ему что?
Через неделю узнаю: он в Москву, на совещанье поехал, потом в Болгарию, с делегацией.
А я по-прежнему у матери живу, работаю. Ребята, правда, иной раз спросят:
— Где же папа?
— Уехал, — отвечаю. А сама, по совести говоря, все жду его, все думаю — придет, одумается, поймет мою правоту.
Ведь любила же я его. Потому и ушла, что любила, что он мне дороже всех на свете был.
Как-то встретились мы с ним, он хотел было пройти мимо, потом остановился.
Читать дальше