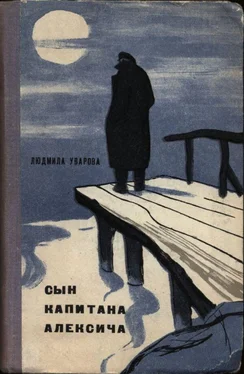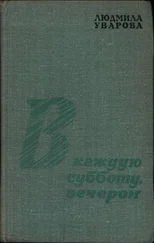— Пойдем, сынок, — сказал капитан. — Уже поздно.
Он зябко передернул плечами, хотя было вовсе не холодно. «Сынок…» Больше он так уже не скажет. Может, лишь тогда, когда Вася приедет к нему в гости. Но приедет ли?..
Уезжали они утром, спустя четыре дня. На вокзале капитан обнял Васю в последний раз, потом заставил себя разжать руки.
— Давай уж и мы с тобой попрощаемся, — глухо сказал Петрович, обнял Васю, засопел, отвернулся и вдруг откровенно прослезился, шмыгая носом.
— Петрович, зачем? — растерянно сказал Вася и обернулся к капитану. — Я писать буду, — сказал он. — И ты мне пиши, дядя Данилыч. Про всю гвардию, все пиши, и про Тимку, и про Жучка, про всех, одним словом…
— Напишу, — заверил его капитан, улыбаясь. — Про всех напишу.
— Пора, — сказал Федор. — Через пять минут отправляемся. — Подошел к капитану, протянул ему руку.
— Счастливого пути, — сказал капитан.
Поезд давно уже скрылся вдали, а капитан и Петрович все стояли, глядели туда, где, им казалось, еще горит красный фонарик последнего вагона.
…Капитан стоял на крыльце, медля войти в дом. Все проходит, и это пройдет. Пройдет ощущение пустоты, одиночества, внезапно нахлынувшего на него, и уже не страшно будет приходить домой, где никто не встретит его, кроме разве «гвардии», оставленной Васей, да еще летописи, в которую он не заглядывал с тех пор, как приехал Федор.
Он представил себе долгие дни, месяцы, а может, и годы, когда он будет ждать писем Васи, и в свою очередь писать ему, и снова ожидать.
Должно быть, такова жизнь — ждать, постоянно ждать чего-то, что должно прийти или никогда не придет…

«СИРЕНЕВЫЙ БУЛЬВАР»
Внезапно среди бела дня зажглись лампы. Вот уж ни к чему: в окна било солнце, густой, пронизанный солнечным светом поток пыли плотно стоял в воздухе.
Потом поезд нырнул в тоннель. Стало прохладно, как в погребе. А тоннель все тянулся, и темноте за окном, казалось, не было ни конца, ни края.
И вот снова деревья летят одно за другим, и мелькают среди деревьев немеркнущие осколки лесных озер, и кругом синее, очень высокое, очень чистое, как бы хорошо отмытое небо, а впереди рельсы, рельсы, отливающие сизым, вороненым блеском…
Женя лежала на верхней полке. В раскрытое окно врывался ветер, вместе с ветром влетали мелкие камешки, пыль оседала на полках, на столике, на металлических поручнях.
Закрыв глаза, Женя подставила лицо ветру. Солнце и ветер, казалось, спорили, не могли переспорить друг друга — кто сильнее?
Горячий свет на миг обжигал лицо, и снова его сменял ветер, сливаясь с тоскливым протяжным гудком паровоза.
Уже далеко позади осталась Москва, засыпанные рыжей хвоей просеки Сокольнического парка, потемневшие от времени двери проходной. Кто-то другой идет по дорожке от Сокольников до завода, кто-то входит в дверь проходной, шагает по заводскому двору, над которым день-деньской стоит сладковатый запах горячей резины.
А ее, Жени, там нет, и, наверное, долго не будет. Скорей всего никогда.
«Я еду, — думала Женя. — Это я еду. Именно я. Вот деревья летят навстречу, и птицы сидят на проводах, а вон, впереди, на пригорке, выложены белыми камешками слова «Да здравствует мир!».
И опять это все позади, а я еду. Лежу на верхней полке и с каждым часом, с каждой минутой все ближе к нему. Он ждет меня. Может быть, сейчас, в эту самую минуту, он считает, сколько мне еще осталось ехать. Что скажет он, когда увидит меня? «Вот и ты», — скажет или просто возьмет за руку, спросит: «Где твои вещи?» Или обнимет, не глядя ни на кого, прижмется щекой к щеке. «Наконец-то, — скажет, — а я-то думал…»
Она тихонько засмеялась про себя. «Это очень хорошо, что ты меня ждешь. И думай обо мне, все время думай. Я ведь тоже все время думаю о тебе, говорю с тобой, иногда спорю, но как-то так получается, что в конце концов, уступаю. Я привыкла тебе уступать. Потому что ты мой, весь как есть мой, и твоя неуступчивость, вспыльчивость, горячность и молчаливость, которая вдруг накатит на тебя, — тоже мои. Все мое. Ты ждешь меня. Самое важное в жизни — сознавать, что кто-то ждет тебя. Ждет, и думает, и считает: когда-то ты приедешь. Ведь правда — это самое важное?»
Поезд слегка замедлил ход. Еще зеленые, чуть опаленные ранней осенью деревья уступили место полям.
Поля были уже по-осеннему голые, и, как водится, над ними кружились пестрые галки; должно быть, кричали несусветно на своем птичьем языке что-то неслышное. Жене, — может, ссорились, а может, решали, куда лететь на зиму.
Читать дальше