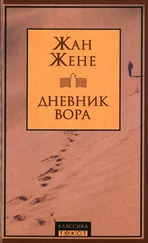В этой книге, и не только в этой я много говорил о храбрости и мужестве палестинцев. Конечно, была робость, тревога, страх смерти, конечно, были слабости: порой подкашивались ноги, когда человек видел кучу золота или новеньких банкнот, шуршащих, как струи фонтана. Для того чтобы сопротивляться искушению властью, нужна огромная сила, но я всего лишь раз оказался свидетелем слабости и малодушия.
Выше, когда я писал о сражениях и битвах палестинцев, об их физической силе, я употреблял слове «смелость», когда же речь идет о душевной силе и силе разума, то больше подходит слово «доблесть», здесь и презрение к смерти, и вызов опасности, и преодоление телесной слабости. Но когда палестинцы бросали вызов презрению, что слышалось в словах «терроризм», «террористы», демонстрировали безразличие к мнению других – что они дьяволы, и все их деяния дьявольщина в глазах остального мира – для этого требовались и смелость, и доблесть.
Обвинять фидаинов в малодушии? Кроме той ночи паники, которую я попытался описать, попытался объяснить – попытался, ведь меня там не было – в моменты самые неопределенные, когда видишь, как смерть – а ее, и в самом деле, видишь – колеблется в нерешительности, сомневается, кого выбрать: вас или вашего врага, всё кажется игрой. Революция становится довольно забавной игрой. Сражаться до самой смерти, когда ты либо убит, либо убил, ради какой-нибудь территории здесь или где-то еще? Проигранная игра, равнозначная проигранной жизни, то есть, смерти, это, в самом деле, серьезно, когда, проигрывая, нужно платить улыбаясь?
Но убивают друг друга ради территории или ради победы?
В миланском Пассаже, на пересечении двух крытых галерей пол выложен мозаикой. Одно, довольно небольшое, место мозаичной композиции истоптано и продавлено. Там изображены гениталии коня [72]. Ни один миланец, из тех, кто парами ходит по галерее, не забывает, встав пяткой в эту ямку в мозаике, покрутиться вокруг своей оси, чтобы в него перешло немного мужской силы этого жеребца. Когда видишь троих или четверых мужчин, соединивших руки крест-накрест, вспоминаешь этот своеобразный менуэт, который танцуют на яйцах жеребца. Ни одной женщине никогда не было дозволено сделать подобный жест. Школьный двор превратился в базарную площадь, где каждый мальчишка выставлял напоказ, словно хвалясь добродетелями, эти чудовищные тестикулы, которые носил на поясе или на плече. Но если что и казалось одновременно непристойным и целомудренным, так это металлическая обнаженность этих атрибутов.
Округлая форма гранат, висевших на поясе или на плече школьников, влекла мои руки. Уже отважные бойцы, уже воины, они говорили только о войне, причем, говорили более торжественно и возвышенно, чем сами фидаины, сделавшие свой выбор – сражаться. Может быть, фидаины мечтали о чем-то другом, более конкретном? О женских бедрах, например? О самых приятных частях тела, от прикосновения к которым мутится разум: волосы, глаза, грудь, живот, ягодицы? Были ли они рядом в этой смутной чувственности, как в матово-молочном тумане, где каждый фидаин, даже охваченный желанием, оставался ангелом? Оказаться так близко от смерти и не стремиться породить новую жизнь, наслаждаться жизнью и не передать ее, ту, которой обладаешь, но которой через мгновение уже не будет? Всё это не имело никакого отношения к тому, что происходило во дворе, по которому вышагивали взад-вперед юные, мускулистые самцы, не терзаемые, так мне казалось, сексуальным желанием. Иногда в каких-нибудь романтических текстах случается прочитать, что герой обручен со смертью: оргазм, французское, очень мужское слово, но поверженное агонией, смертью, женщиной, войной – женскими понятиями, за которыми остается последнее слово. Между опорными столбами, между скульптурными стенами Триумфальной арки, между широко расставленными ногами фидаина, между вертикальными перекладинами буквы «Н», с которой начинается имя Хамзы (Hamza) прошли, должно быть, батальоны победителей, а за ними их орудия и танки. Мы с Хамзой остались в доме его матери. Последняя фраза, похоже, указывает на то, что главой семьи была мать; вспоминая об их отношениях с сыном, об этой непрекращающейся ходьбе туда-сюда, я догадываюсь сегодня об их взаимообмене, которого тогда не замечал; вдова с сильным характером, мать, вооруженная точно так же, как и сын, она, глава семьи, улыбаясь, передавала свои полномочия главы семьи Хамзе, который, действуя в интересах ФАТХа, но тайно ведомый матерью, позволял ей царствовать. Когда я думаю о ней, то вспоминаю Черную Деву Монсерратскую, держащую на коленях, являющую своего сына, более сильного, чем она сама, предъявляющую его, заявляющую: именно он центральная фигура, а может, все-таки она?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Жан Жене Влюбленный пленник [litres] обложка книги](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-cover.webp)