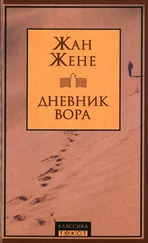Когда мы вышли от нее и за поворотом увидели небольшой орешник, фидаины бросились врассыпную, оставив меня одного на дороге. Они углубились в лесок и каждый, пытаясь укрыться, спрятаться от других, спокойно, как дети, которые садятся на горшок – хотя полы их белых рубашек чуть виднелись сквозь листву – присели и стали срать. Думаю, они подтирались листьями, сорванными с низких веток, а потом вернулись строем на дорогу, уже аккуратно застегнутые, по-прежнему с оружием, по-прежнему распевая импровизированный марш. По возвращении приготовили чай.
Когда я вспоминал эту крестьянку, иногда она виделась мне мужественной, умной женщиной, а порой мне казалось – и я не мог помешать себе так думать – что она прекрасно умеет скрывать свои мысли и чувства. По негласному договору, как и все жители Аджлуна, она и ее муж притворялись: он – другом (до раболепия!) палестинцев, она же, хитрая и лукавая, проявляла дипломатичность и политический расчет. Может, это была чета коллаборационистов, так одни французы называли других французов, сотрудничающих с немцами, или этой паре было поручено изображать симпатию, чтобы лучше информировать иорданские войска? В таком случае, возможно, именно они предоставили самые важные сведения, благодаря которым сделалась возможной июньская резня 71 года? Я до сих пор не понимаю, почему эта крестьянка была так настроена против Хусейна. Может, в ее родне были палестинцы? Ей нужно было расквитаться? Или она вспоминала, что когда-то ее спасли палестинцы? Я до сих пор задаю себе этот вопрос.
Столько уловок, ошибок, оптических иллюзий могло быть обнаружено журналистами, причастными к мятежу или ослепленными его сиянием, незатейливость этих явлений должна была бы их насторожить; а я не помню ни одной статьи в прессе, где выражалось бы удивление банальностью или наивностью этих оптических иллюзий. Газета, пославшая их так далеко, требовала, возможно – ведь она тратила реальные деньги – чтобы события были трагическими, ведь только трагические события достойны таких посланцев: фотографы, операторы, репортеры. Пресловутое выражение: «Проходите, здесь нечего смотреть», приписываемое парижским копам, имело другое происхождение: еще задолго до этого журналистам был запрещен доступ на базы – стой! секретный объект! – базы были такой запретной зоной, куда никто не допускался, и все, должно быть, думали, не решаясь произнести это вслух, что там нечего смотреть . В памяти всплывают чудесные мгновения, а моя книга и есть – но скажу ли я об этом? – накопление таких мгновений, все ради того, чтобы утаить это великое чудо: « здесь нечего смотреть и нечего слушать ». А может, это что-то вроде заграждения, воздвигнутого, чтобы скрыть пустоту, множество подлинных подробностей, которые по аналогии придают подлинность другим подробностям? Не в силах воспрепятствовать этому тривиальному способу хранить военные секреты, я чувствовал беспокойство: ООП использовала скрытые или цинично-демонстративные методы победивших государств.
В самом деле, я не увидел и не услышал ничего такого, что нельзя было разгласить, но может, это из-за своей наивности или рассеянности – с таким изумлением, например, я рассматривал на какой-то базе колонию семенящих вереницей гусениц-шелкопрядов, и эта рассеянность и отрешенность были так некстати, что находящиеся рядом фидаины проголодались и замерзли, поджидая меня? Возможно, Абу Омар видел во мне некоего легкомысленного союзника или лишенного проницательности старика, которой, что бы важного и значительного ни произошло, не проболтается, не поймет, обратит на это не больше внимания, что и на вереницу ползущих гусениц.
Фидаин, так хорошо переводивший мне с арабского слова той крестьянки, неожиданно сократил дистанцию, которая вопреки его и моей воле пролегала между нами. Он пригласил меня на ужин в честь дня рождения отца, бывшего османского офицера.
Застыв в пыльной убогости, свойственной крупному арабскому поселению вплоть до совсем недавних времен, во всяком случае, в семидесятые было именно так, Амман, как и многие другие столицы арабского мира, словно лежал в отрепьях. После множества смерчей, пронесшихся над Бейрутом, город словно хватил апоплексический удар. Нищета не дает забыть о том, что все арабы остерегаются палестинцев, и никто не попытался помочь народу, которого так истязали и мучили: враги израильтяне, революционные и политические разногласия, собственная душевная боль. Видимо, все полагали: народ, у которого нет земли, угрожает всем землям.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Жан Жене Влюбленный пленник [litres] обложка книги](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-cover.webp)