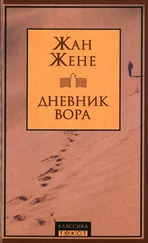Если это мать Хамзы, она уже в царстве теней. Если задать ей прямой вопрос, она поранится о его острые углы и рассыплется в прах на моих глазах, и тогда передо мной будет покойная мать Хамзы.
Я осторожно протянул ей руку, она коснулась ее, как кошка мочит лапку. Еще она сказала:
– Садитесь.
Обвела рукой комнату, небольшую гостиную, где вместо ковра на полу лежали покрывала и подушки, образуя уютный уголок. С гибкостью, которую арабские женщины всех стран сохраняют до глубокой старости, они села на корточки на пол, прямо держа спину, и скрестила под собой ноги. Нидаль спросила:
– Ты узнаешь этого француза?
– Мои глаза плохо видят.
– Он приезжал сюда, к тебе, вместе с Хамзой, в 1970.
– У него был фотоаппарат?
– У меня никогда в жизни не было фотоаппарата, – сказал я.
Лицо ее оставалось неподвижным. Вполне вероятно, она меня забыла. Палестинцы пережили зверства солдат-бедуинов, беспокойство за Хамзу, когда тот был в исправительном лагере в Ирбиде. Я и сам не был уверен, что это она. Однако понемногу расположение комнат нового дома стало мне напоминать планировку дома прежнего. Гостиная, в которой мы сейчас разговаривали, была комнатой матери, той самой, где она принимала меня утром и приготовила чай, а сама пить не стала. Напротив находилась закрытая дверь уборной, где я научился пользоваться бутылкой с водой. Тоже сидевший на корточках, наконец-то проснувшийся Хамза II с детским восхищением смотрел на эту странную очную ставку. Мы хитроумно расставляли ловушки, словно хотели, чтобы несчастная женщина проговорилась, и каждый думал: «Так ему будет лучше».
Пока Нидаль переводила мои вопросы на арабский, старуха ей отвечала, а потом Нидаль передавала ее ответ по-французски, у меня было время подумать, я в который раз обводил взглядом комнату, опять искал и опять находил новые черточки прежнего дома, пытался их истолковать. Лицо женщины находилось на уровне моего лица, оно было совсем белым, почти как ее волосы, и я заметил розоватые чешуйки кожи на голове и еще несколько маленьких пластинок хны, такими осыпают волосы невесты утром после свадьбы. Она тихо сказала:
– Кажется, однажды в рамадан мой сын пришел с каким-то иностранцем. Может, это и был француз. Не помню.
– Как зовут твоего сына?
– Хамза.
– Это было в каком году?
– Давно. Очень давно. Год я уже не помню.
– Ты помнишь, что это был Рамадан, но год не помнишь?
– Да, Рамадан.
– Тогда ты должна вспомнить: твой сын, Хамза, к тебе привел француза, а у тебя было ружье на плече…
– Нет, нет, у меня никогда не было ружья.
Я говорил с ней, мы все говорили с ней не то, чтобы мягко, но осторожно, как разговаривают полицейские и следователи, которые, несмотря на раздражение, должны продвигаться медленно, терпеливо, не прямолинейно, успокаивать, идти словно в войлочных туфлях, я думаю, пока у нас все получалось. Мы, Нидаль, ее подруга и я, стали тремя идеальными копами. Я смаковал сладость притворства, я думаю, великие инквизиторы прошлого обладали, а полицейские и следователи обладают сейчас ловкостью птицелова. По ее реакции было понятно: власти когда-то обвинили ее в том, что она носит оружие.
– Хорошо, оружия не было. Твой сын пришел с французом. Он сказал, что этот француз христианин, но в Бога не верит.
Хамза II рассмеялся:
– Хамза тоже совсем не верил в Бога.
– А ты тогда сказала сыну: если он не верит в Бога, надо мне его накормить.
– Да, он ел очень мало. Одну сардинку…
– Две. Две сардинки, два помидора и небольшой омлет. Правда, немного.
Все, кроме нее, засмеялись. Нидаль сказала по-арабски:
– Но эта дама рисует портрет Жана. Он в Аммане, уже неделю, и вообще ничего не ест.
– Твой сын Хамза привел меня к себе в комнату. Показал отверстие у своей кровати, чтобы мы могли спрятаться, ты, твой сын и я, если бы бедуины оказались слишком близко…
После слова отверстие Нидаль перестала переводить. Может, сказалась профессия актрисы, ее умение уловить самый драматический момент, она остановилась, но затем молчание продолжилось ферматой, то есть, первая часть фразы завибрировала, словно повиснув в воздухе, и мне показалось, что вот теперь эта очень тонкая нить порваться не должна. Нидаль продолжила от у своей кровати до слишком близко . Когда фраза оказалась полностью переведена, мать поднялась и протянула мне руку.
– Идем, отверстие еще там, я тебе покажу.
Переводить было уже не надо. Ведя меня за руку и не предлагая другим последовать за нами – чего обычно она делать не решалась, но сейчас ее волнение было не скрыть – она отвела меня, меня одного в соседнюю комнату. Приподняла квадратную заслонку. Встревоженные слухами на улице, двое молодых людей вошли, когда я находился в бывшей комнате Хамзы и стоял, склонившись над этой дырой в полу, о которой помнил все эти четырнадцать лет и которая была словно символом доверия между мною и палестинцами: Халебом абу Халебом, Хамзой, его сестрой и матерью. Я выпрямился, глядя перед собой и сказал по-арабски:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Жан Жене Влюбленный пленник [litres] обложка книги](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-cover.webp)