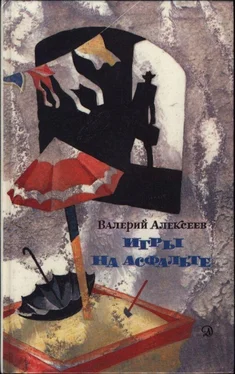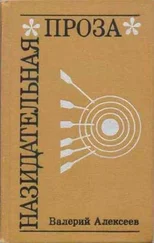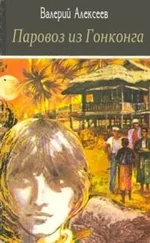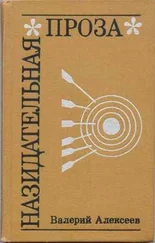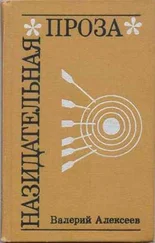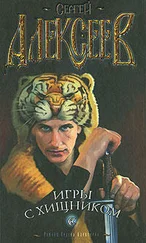Я живо представил себе, как разъяренная Капка размахивает свистящим витым шнуром, а Тоня мечется по тесной комнате, прикрывая голые колени… И все это молча, без единого возгласа, чтоб, не дай бог, в подъезде не было слышно. И никто не остановит, не защитит…
— И часто она тебя? — спросил я, содрогнувшись от жалости.
— Гришенька, когда стою, — серьезно ответила Тоня.
— А вчера разве стоила? — не унимался я.
— И вчера стоила, и сегодня стою. — Глаза ее засияли от непонятного мне девичьего восторга. Вообще-то мне не нравится это книжное выражение — «засияли глаза», но что поделаешь, если они действительно сияли.
— А что она… ну, говорила, приговаривала, когда тебя секла?
Сам не знаю, зачем мне это нужно было знать, но Тоня замялась.
— Или молча? — допытывался я.
— Знаешь, Гриша, — сказала вдруг Тоня, — не надо об этом.
И посмотрела на меня просто и, я бы сказал, мудро, как мама на расшалившегося малыша. А меня обидела и решительность, с которой это было сказано, и снисходительная мудрость ее взгляда. Я вдруг почувствовал, что мямлей эту девчонку не назовешь, и это меня не то чтобы озадачило, но насторожило. Я бы предпочел, чтобы она больше так на меня не смотрела и не решала за меня, о чем надо и о чем не надо говорить.
Выходит, Тоня настолько меня простила, что не нуждалась ни в каких моих объяснениях и вопросах. А знаете, как это могло быть прочитано? «Какой бы ты ни был, что бы ты ни говорил и ни делал, я все равно тебя люблю. Делай, что тебе в голову взбредет, это неважно. Мне даже не нужно об этом говорить: с меня довольно и того, что я тебя люблю». Бывает ли любовь-пренебрежение? Вы скажете: нет. А если подумать?
Вот такие дела.
И я ушел. Ушел так импульсивно и решительно, как уходим мы в юные годы, по наивности полагая, что навсегда — это значит «до завтра» или «до понедельника», на худой конец.
— Ладно, мне пора, — буркнул я.
И ушел — как оказалось, именно навсегда.
Был у нас в районе в те годы пункт для внутригородских телефонных переговоров, который все окрестные жители называли «телецентр». Постепенно это название отмерло, потому что оно плодило сотни недоразумений, а потом и сам «телецентр» исчез, теперь в его помещении работает овощной магазин. Но старожилы (те, которые вместо «Фо́рум» по сей день произносят «Фору́м») еще помнят маленькую сгорбленную старушку, которая, сидя за конторкой возле дверей, вечно в валенках и накинутом на плечи сером шерстяном платке, разменивала мелочь и выдавала потрепанные и морально устаревшие телефонные книги. При этом она беспрерывно говорила (от одиночества, наверно, хотя через «телецентр» за день проходили сотни людей), с кем-то заочно спорила, сама себе возражала, и было жутковато, держа возле уха телефонную трубку, полную длинных гудков, слушать, как Марья Викентиевна разговаривает сама с собою на разные голоса. Я порою приходил в «телецентр», чтобы послушать ее безумные диалоги: мне казалось, что это род телефонного помешательства (или, выражаясь более современно, патологическое воздействие телефонных волн). Причем называть эту старушку нужно было «Марья Викентиевна» — с нерусским продленным «и», в противном случае она возражала: «Моего отца звали Викентий!» — с таким негодованием, как будто это было оскорбление памяти ее отца.
К этой самой Марье Викентиевне (против произношения «Марья», а не «Мария» она не протестовала), в этот самый безумный «телецентр» я и направил свои стопы.
Марья Викентиевна встретила меня страстным монологом на тревожившую ее тему: «Куда же вы меня гоните? Меня, старую женщину, вы гоните на улицу, несмотря на то, что…» — и так далее. При этом она, тряся головой, аккуратно отсчитала мне семь рублей с десятки, а потом выложила на прилавок ровный столбик пятнадцатикопеечных монет. Я потоптался, покашлял. Марья Викентиевна подняла на меня взгляд своих голубых кукольных глаз (почему, собственно, не делают кукол-старушек? Все девчачьи куклы несут в себе противоречие между младенческим сложением и взрослой прической, и никто этого не желает замечать) и, прервав свой внутренний спор, с укоризной заметила:
— Ты мешаешь работать.
— Мне нужен телефон МГУ, — робко сказал я.
— МГУ — это огромное учреждение, — здраво возразила Марья Викентиевна, — состоящее из целого ряда…
Тут вмешался ее внутренний оппонент (как будто и в самом деле на наш разговор наложился мощный всплеск телефонных помех), и другим голосом Марья Викентиевна вскричала:
Читать дальше