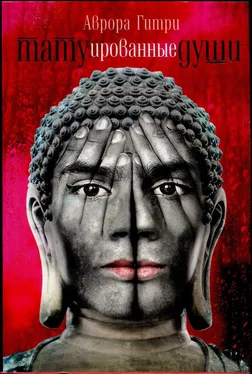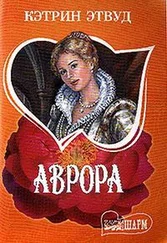Француз подходит ко мне с кремом в руках и кладет свою ладонь на мою. Его взгляд смягчается, касается меня, не обжигая. Он чувствует опасность, которая таится в моей просыпающейся памяти. И моя любовь делает усилие и улыбается, перед тем, как намазать кремом мне лицо. Потом он рисует меня. Без ярости. Его жесты спокойны и печальны, его кисточки снова ласкают меня. Когда он карандашом наносит на мое лицо контур символа, я закрываю глаза, чтобы лучше представить себе моего тукая. Символ счастья и богатства. Ящерицу, хитрую, как хамелеон, умеющую менять цвет кожи в зависимости от обстоятельств. Неподвижное, на первый взгляд безобидное существо, но с мертвой хваткой. Мне нравится чувствовать, как оно появляется на моем лице, нравится воображать, что я могу исполнять желания. Меня радует эта мысль.
Когда француз заканчивает свое произведение, он не садится ко мне на кушетку. Он отходит в противоположную сторону и устраивается рядом с перегородкой, которая скоро завибрирует в ритме стонов наслаждения. Он молча смотрит на меня, его взгляд прикован к моей щеке. На которой, как я догадываюсь, находится блестящий глаз тукая, глаз, который никогда не мигает. Он подтянул колени к подбородку, его испачканные гримом руки безвольно опущены.
Художник восхищается своим творением издалека.
Он снова начинает отдаляться от меня. Нас разделяет стена тьмы, и, несмотря на жаркую, влажную атмосферу комнаты, я, такая одинокая на своем диванчике, начинаю дрожать от холода.
Проходит час, а между нами по-прежнему лежит пропасть, которую углубляет концерт в исполнении тел, совокупляющихся в соседних норах. Француз продолжает созерцать мое лицо, он источает холод, мучая меня своими испачканными красками, отказывающимися прикоснуться ко мне пальцами.
Он все еще сердится? Неужели он не может простить мне кошмарный эпизод, который я пережила вчера?
Если бы я ему все рассказала…
Гирлянды слов теснятся у меня в горле. Я сжимаю губы, чтобы удержать их, но один вопрос сумел прорваться сквозь заграждение:
— Почему ты такой грустный?
Мой голос заставляет его едва заметно вздрогнуть. Быть может, если я продолжу заполнять словами разделяющую нас бездну, он встанет и подойдет ко мне…
— Ты сердишься из-за вчерашнего клиента, да? Но у нас ничего не было. Ничего. Он просто…
Я выпрямляюсь и сажусь, чтобы забыть об унижении. Влажный пол щекочет мне ступни. Француз отвел глаза, словно толстый фаранг с красным лицом неожиданно ворвался в бокс.
— Мне… Мне кажется, что я тебя потерял, — шепчет он, опуская ресницы.
Когда он это произносит, уже мне кажется, что я его теряю. Я в панике отрываю руки от бедер, вскакиваю с кушетки и бросаюсь к нему. Я должна доказать ему, что я рядом, что живу для него, что принадлежу ему, ему одному.
— Я твоя. Ты ведь знаешь это, так? — говорю я, опускаясь рядом с ним на колени.
— Это ненадолго. Я чувствую, что ты в конце концов покинешь меня. Так же, как и она…
Он вскакивает на ноги и почти кричит. Перегородки замирают, стоны затихают. В боксах привыкли слышать шепот, короткие, пробуждающие желание фразы. Признания, клятвы в любви и упреки здесь не в обычае.
В неожиданно наступившей тишине его слова раскатываются эхом.
Как и она… Другая, до меня. Другая, которую он любил, как меня. Я потрясена.
— Кларисса тоже говорила, что принадлежит только мне, — продолжает он тише, чтобы не мешать парам, которые вновь начинают вальсировать в соседних комнатах. — Что она чувствует себя сильной с моим макияжем, что не сможет жить без меня. И я ей поверил.
Его слова водопадом текут с его языка и волнами катятся ко мне.
Мы вкусили наше примирение в молчании, с торопливостью влюбленных после слишком долгой разлуки. И теперь француз осыпает меня признаниями, топит в своем прошлом.
Он рассказывает историю своей жизни, начиная с увлечения макияжем. Он говорит, что, сколько себя помнит, всегда видел рисунки, проступающие на лицах людей. Растения, предметы, животных. Сначала он просто переносил их на бумагу и холст, чтобы не забыть. Но резкий запах масляных красок, отсутствие аромата у карандашей и ровные, гладкие, плоские поверхности не нравились ему. Ограниченные листком бумаги, запертые в рамки картины казались лишенными жизни. А потом однажды он увидел свою мать, которая красила глаза в ванной. Видя, как становятся более совершенными черты ее лица под кисточкой, как молодеет кожа под слоем пудры, француз понял, что секрет жизни рисунка заключается в основе, и только человеческое лицо сможет вдохнуть в него душу. Он решил стать визажистом.
Читать дальше