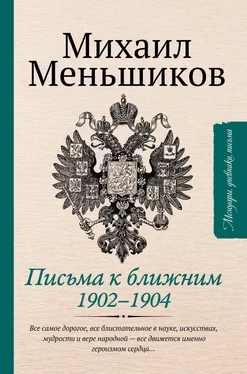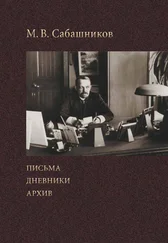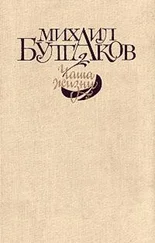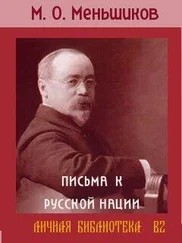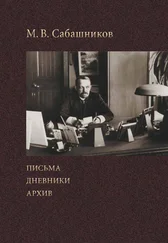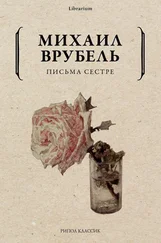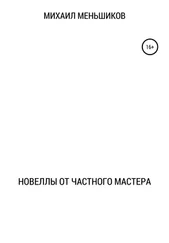В одной высшей школе – в Академии Художеств, мне кажется, требование гимназического диплома уже доказало свою вредоносность. Мы имели ряд блестящих талантов, не получивших среднего образования. С тех пор как стали его требовать, ни число талантов, ни сила их не увеличились ни в какой сколько-нибудь заметной степени. Огромный мир народных дарований, мир бедняков, для которых даже средняя школа недоступна, был навсегда отгорожен от искусства. То же следует сказать о требовании гимназического диплома от музыкантов или актеров. Но и все науки – если взглянуть на них творчески – те же искусства, все требуют увлечения, таланта, и если для живописи или музыки нет необходимости подробно знакомиться со всеми музами, то же самое для химии или медицины.
Я уверен, что многие не согласятся с этой мыслью. Возможно ли полное развитие таланта при недостаточном образовании? Пусть Репин кончил только уездное училище, но, может быть, если бы он прошел еще гимназию, то вышел бы вторым Рафаэлем. Но я замечу, что так как неизвестно, что вышло бы с Ильей Ефимовичем в этом случае, то можно предположить и обратное, т. е., пройди он гимназию, из него не вышло бы и Репина. Если бы лучшие годы юности, с 12 до 19, он посвятил бы не рисованию, а латинским глаголам и алгебре, то, может быть, мы имели бы одним посредственным столоначальником больше и одним высокодаровитым художником меньше. Я далек от того, чтобы утверждать, что образование вредит таланту или что оно ему вовсе не нужно. Я говорю лишь то, что принудительное и слишком громоздкое образование может отвлечь природу юноши от более драгоценного процесса – художественного развития, именно в те годы, упустить которые гибельно. Я утверждаю также, что образование дело наживное, что был бы налицо талант, и он сам непременно найдет способы дополнить те сведения, какие ему действительно необходимы для полноты развития. Наши замечательные художники, конечно, немало работали над собственным образованием; отсутствие диплома не помешало ни Крамскому, ни тому же Репину сделаться художественными критиками; прекрасный язык их свидетельствует о всей полноте образованности, какая доступна.
Всем этим я хочу сказать одно: каждой развивающейся душе должны быть предоставлены средства развития, но нужно остерегаться, чтобы избыток или несвоевременность средств не сбивали ее с цели.
Гоголь умер 43 лет, приблизительно в теперешний возраст А.П. Чехова, которого все мы считаем еще молодым писателем. Считаем не столько по возрасту, сколько по внутреннему предчувствию, что этот огромный талант едва тронут, что он должен дать и непременно даст в будущем целый ряд произведений той законченности и полноты, какая дается лишь под старость. Сорока лет Лев Толстой уже был автором «Войны и мира», но никто, конечно, и представить себе не мог, чтобы тем ограничилось его творчество. Великий талант был налицо, но жизненная работа его была на три четверти впереди. В 43-летний возраст Гончаров еще был только автором «Обыкновенной истории», не было на свете ни «Обломова», ни «Обрыва». Достоевский в 43 года не написал ни одного из своих великих романов. Тургенев не написал еще «Отцов и детей», «Дыма», «Накануне», «Нови». Таким образом, нет сомнения, что и 43-летний Гоголь не все сказал, для чего был послан в мир. Он унес с собой «какую-то великую тайну», говоря словами Достоевского о Пушкине, тайну роскошного расцвета замыслов, которые в средине жизни еще едва намечены. А так как перед самой смертью, в порыве меланхолии, Гоголь сжег всю работу своих последних лет, то мы знаем этого писателя совсем молодым и даже приблизительно не в состоянии судить, какая с ним вынута огромная умственная сила из русской жизни. Если прибавить к Гоголю погибшие еще более трагически великие таланты Пушкина, Лермонтова, Грибоедова…
Просто язык немеет от этой непостижимо-бедственной судьбы наших гениев. Можно подумать, что в нравственной жизни общества есть свои цветы и свои морозы и что самые нежные, самые благоуханные явления духа в иную эпоху губит тот тайный холод, то варварское неуважение к таланту, которое непременно найдет предлог, чтобы погубить великого человека, подвести его под жало клеветы, под пистолетную пулю, под случайность опасного труда. Уже на глазах Пушкина началась гибель весеннего расцвета нашей интеллигенции. Батюшков, Козлов, Языков, Веневитинов, Чаадаев, Баратынский, Дельвиг – прямо богатырское поколение по свежести чувства и благородству мысли, и вот один сходит с ума, другой слепнет, третий спивается, четвертый умирает от чахотки, пятый объявлен сумасшедшим, тот самый, что, по мнению Пушкина, «в Риме был бы Брут, в Афинах – Периклес». И общество, и природа как будто не выносили зарождающейся в России гениальности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу