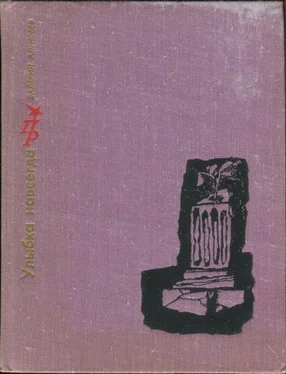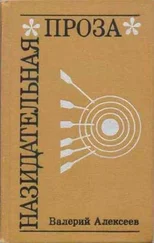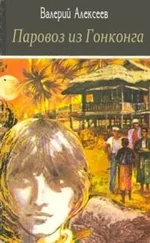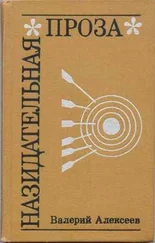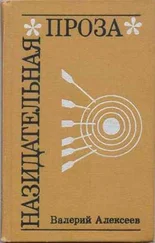Ах, он спас твоего отца, вынес его с поля боя? Ну, тогда конечно, тогда отчего бы в знак благодарности не швырнуть себя под ноги солдатам и полицейским? Знай же, Рула, что никто никого никогда не спасает: это миф, это ложь, это бред. Это выдумано такими, как твой Белояннис, чтобы такие, как ты, умирали за них без страха. Да, бывает, случается, что один отдает свою жизнь за другого, но по глупости или в силу стечения обстоятельств. А сознательно — никогда. Каждый умирает сам за себя. И если есть хоть малейшая возможность передоверить это дело другому, подставить вместо себя глупца или юнца, не понимающего, что такое смерть, — никто не поколеблется, каждый подставит. Так уж устроен человек. И твой Белояннис не исключение, он слеплен из такого же теста. Ты думаешь, ради праздного любопытства Мицос передал ему привет от Рулы Эритриаду? О нет, ты слишком плохо знаешь своего Мицоса. Вот увидишь, как ухватится твой Белояннис за эту мизерную возможность подставить под пули вместо себя кого угодно, чтобы только остаться жить. Вот увидишь, с какой жадностью, с какой настойчивостью он станет выпытывать подробности: что готовится, где, когда, сколько человек готово встать под пули ради его спасения. Все это необычайно важно для него, потому что речь идет о его жизни. И совсем ему неважно и не хочется знать, останется ли лежать на земле изрешеченная пулями девчонка по имени Рула Эритриаду. Подожди еще немного, Рула: скоро постучит осужденный из камеры номер два, твой незабвенный герой, которому на тебя наплевать. Ты думаешь, что ему скажет Мицос? Мицос скажет ему: не выйдет, товарищ Белояннис, каждый умирает сам за себя. Тебе, товарищ Белояннис, хотелось стать номархом или премьер-министром — так будь любезен, рассчитайся за это сполна. Кто многого хочет, с того много и спросится. А Мицосу хочется только тихого домашнего счастья, и за это он готов ответить хоть перед самим господом богом. Никто не обязан корчиться под пулями только из-за того, что товарищу Белояннису не удались его великие дела.
Кипяток давно уже остыл, Мицос с отвращением отхлебнул из кружки и тут же сплюнул. Зубы Мицоса стучали, глазам было горячо и темно. Как сквозь кровавый туман, он увидел Григориса, мирно дремавшего на топчане, и чуть не взвыл от тоски: да что же это? как можно спать, когда едут уже, наверно? Ему опять стало казаться, что едут за ним. Не помня себя от страха, Мицос встал, на негнущихся ногах подошел к Григорису (ах, ты спишь, подлец?), но не успел его ударить, потому что в коридоре послышался тихий, требовательный стук…
Мицос замер со сжатыми кулаками, прислушался. Стук повторился — громче, настойчивее. Ага, сказал себе Мицос, и лицо его осветилось. Вот так-то лучше, голубчик, так-то лучше. Мимо двери, звеня ключами и сонно брюзжа, прошаркал Христос.
— Погоди, Христос, — громким шепотом сказал ему Мицос, — погоди, миленький. Я сам! Я сейчас!
*
В ту ночь Белояннис лег спать одетым.
Собственно, эту фразу можно было бы поставить в кавычки: в том или ином виде она должна была войти во все газеты. Ни одна из правых газет не откажется щегольнуть этой фразой, от которой должно сладко замереть сердце верноподданного читателя.
«В ту ночь Белояннис лег спать одетым».
Никос мог бы и не давать в руки газетчикам такую сенсационную деталь. Характера и нервов у него было достаточно, чтобы заставить себя спать крепким сном до самого прихода жандармов. Но прийти могли в середине ночи, возможно даже в сопровождении фоторепортеров. От этой банды подлецов можно ждать и такого. Никос не хотел оставить ни одной зацепки для правых газет. Они желают щекочущих нервы подробностей — они их не получат. Они хотят увидеть Белоянниса захваченным врасплох, суетящимся, нервным — они этого не добьются.
«В ту ночь Белояннис лег спать одетым» — вот все, что они получат для своих желтых листков. Да, знал заранее. Да, был готов. «В ночь перед казнью спал как убитый» — ненужная красивость. Никос полон жизни. Жизнь переполняет его сейчас до краев. Вот почему он не может сейчас заснуть. Надо думать, надо жить каждую оставшуюся минуту.
Никос лежал на нарах, закинув руки за голову, и смотрел вверх, где под самым потолком слабо брезжило светом зарешеченное окно. По этому неясному свету, по тени решетки на потолке и стене он мог определить время с точностью до четверти часа: сказывался многолетний опыт заключенного. Правда, на руке у него звонко тикали часы, но, чтобы разглядеть стрелки, пришлось бы подходить к дверному окошку, а он не хотел вставать. И потом, поглядывание на часы могло превратиться в навязчивую потребность, и он заставил себя забыть о времени. Бледное световое пятно, изогнувшееся на стене, напоминало Никосу о звездном небе. Никос с жадностью всматривался в это пятно, пытаясь себе представить, как медленно, словно нехотя, поворачиваются над Афинами звезды…
Читать дальше