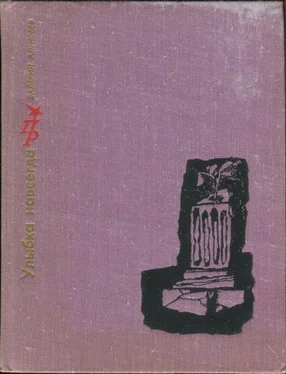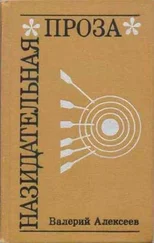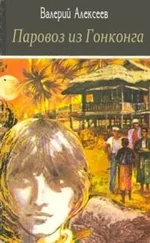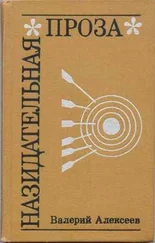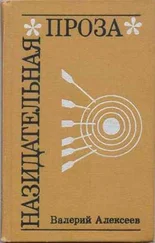Мицос не задумывался над тем, почему его предпочли Ставросу. Он считал, что ему просто чрезвычайно повезло: новый начальник тюрьмы, не покопавшись в личных делах, сделал выбор наугад — в надежде на то, что выбранный им человек будет стараться хотя бы из благодарности. И здесь господин Меркурис не ошибся в расчетах: Мицос готов был исполнять обязанности старшего не за страх, а на совесть, потому что при его запятнанной репутации других надежд выбиться у него не было. В том случае, если он удержится, прибавка к жалованью будет довольно ощутимой, и на Рулу это не может не произвести впечатления. Правда, твердое жалованье старшего надзирателя — совсем не то, что заработок Рулы, который непосредственно зависит от роста цен. Кроме того, министерство не очень спешило с выплатой жалованья, и должок накопился уже изрядный, а цены все поднимались и поднимались, но в таком же точно положении находились все государственные служащие, и тут уж Мицос был не виноват. Конечно, спокойнее держаться за собственное дело, и Мицос мечтал когда-нибудь уйти в отставку и заняться бакалейной торговлей, но не здесь, в Греции, где мелкие лавочники прогорают, а забрать с собой Рулу и уехать в какую-нибудь спокойную, никогда не воевавшую страну, где над ними не будет висеть «героическое прошлое».
С дядей Костасом у Мицоса были очень хорошие отношения, но совесть Мицоса не мучила: господин Болакис, бывший начальник тюрьмы, сам оказавшись не у дел, поможет устроиться и дяде Костасу. С таким влиятельным покровителем старик не пропадет, да и послужной список у него превосходный. Это Мицосу приходилось все время извиняться за горькие ошибки молодости, хотя уж, кажется, искупил, да и время было смутное: все тогда шумели о борьбе с оккупантами, трудно было разобраться, откуда придет настоящая власть. В сорок четвертом году Мицос был уверен, что сделал правильный выбор: в ЭЛАС он был на хорошем счету, командовал ротой одно время, хотя и считался беспартийным, а ЭЛАС и законная власть — тогда было все одно. Но в декабре сорок четвертого Мицос оказался в Афинах, и за тридцать три дня англичане и «священный батальон» научили его уму-разуму: когда потерявший две трети состава полк Мицоса стал выбираться из осажденного города, Мицос понял, что ему с партизанами не по дороге. Кто в Афинах сидит, тот и власть, любил повторять отец, и Мицос пришел к этой власти с повинной. Надо сказать, что время для своего «дилоси» Мицос выбрал подходящее: тогда, в январе сорок пятого, афинские власти были не слишком еще в себе уверены и охотно принимали отречение. Это уж потом, через полгода, блудных сыновей из ЭЛАС стали подвергать дотошным и унизительным проверкам: под чьим командованием служил, в каких боях участвовал да не замешан ли в казнях «национальных гвардейцев», которых тогдашнее правительство любило, как своих родных детей…
Мицос рассчитывал скоротать время до возвращения Рулы за игрой в «тавли» на мелочь — единственное занятие, которому тетка Рулы готова была предаваться до бесконечности. Играла она с ожесточением, как заправский мужик, как будто надеялась на этом разбогатеть, и, если дать ей возможность немножко выиграть, приходила в добродушное состояние духа, а немного спустя куда-то надолго исчезала.
Однако тетки как раз не было, а дома была сама Рула. Мицос помрачнел от самых тяжких подозрений. Когда Рула с улыбкой подбежала к нему и потерлась щекой о его плечо, Мицос с силой взял ее за плечи, отстранил от себя и как следует встряхнул. Она не испугалась, о нет, не из таких была его Рула, она и знать не желала, какая тяжелая у Мицоса рука.
— Кого ждала? — хрипло спросил ее Мицос.
— Тебя, — простодушно глядя ему в лицо, ответила Рула. — Я всегда жду тебя.
— А лавка?
— Лавка закрыта. Хозяин уехал в Ларису, и я до понедельника свободна. А ты?
— Черт, — пробормотал Мицос и отпустил девчонку. Она всегда ухитрялась отвечать так, что не к чему было придраться. — А я, вот видишь, пришел.
— Да уж вижу, — насмешливо сказала Рула и, подойдя к тусклому зеркалу, вделанному в шкаф снаружи, принялась прихорашиваться. Хотя нужды в этом не было никакой: и юность, и свежесть кожи — все ее было при ней. Двадцать лет, ничего не поделаешь. — Что-то рановато, или арестанты все разбежались?
Язычок у Рулы был острый, и службу Мицоса она не любила. Просто слышать о ней ничего не хотела, до того противна ей была эта тюрьма. Мицос уж и так, и этак пытался заинтересовать ее рассказами о своей службе, кое-что даже приукрашивал, особенно свирепость заключенных, свою решительность, а по контрасту — тупость Стелиоса и злобный нрав Ставроса — ничего не помогало: Рула брезгливо морщилась и старалась перевести разговор на другую тему. А другая тема какая? Только лавка, покупатели, о которых Мицосу было тошно слушать, да еще хозяин, этот старый мерин, гордившийся тем, что он французских кровей… вот и получилось, что Мицосу не о чем было с Рулой поговорить, и они большую часть времени проводили в молчании. Единственная тема, вызывавшая у Рулы оживление, — о том, как Мицос был в партизанах и воевал в Фессалии, — была неприятна самому Мицосу. Отец Рулы командовал ротой в Демократической армии и в 1949 году ушел со своей частью в Албанию; может быть, поэтому Рулу интересовало все, что связано с партизанским житьем-бытьем. Мать ее умерла зимой сорок второго во время великого голода, а девчонка вот выжила, и по внешнему виду не скажешь, что дитя таких свирепых лет. Мицос подозревал, что и о замужестве Рула не заговаривает только потому, что ей противна его тюремная служба. Но именно о тюрьме Мицос готов был рассказывать часами. В тюрьме он занимал определенное место, пользовался уважением, и, черт побери, именно ему господин Меркурис оказал такое высокое доверие. Должна об этом знать его будущая жена или не должна?
Читать дальше