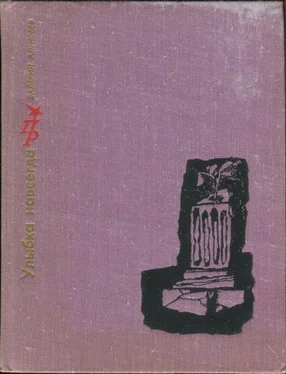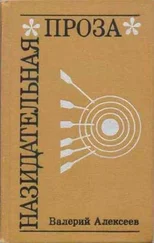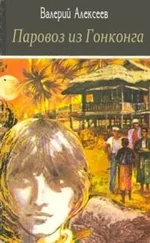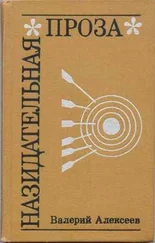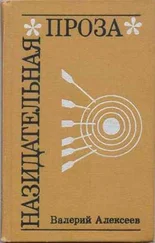Уже на первой неделе процесса обрушилась самая веская часть обвинения, построенная на показаниях несчастного Питакаса. Во время одного из заседаний Питакас истерически расхохотался, вскочил и стал, рыдая, царапать себе лицо. Его пришлось спешно удалить из зала, давать какие бы то ни было показания он был уже не в состоянии и до конца процесса так и не появлялся. Обстановка в зале наэлектризовалась. Обвиняемые, под пытками подписавшие «дилоси», отказывались от своих показаний. Родственники обвиняемых плакали, корреспонденты были в смятении. Председатель военного трибунала полковник Ставропулос выпустил официальных свидетелей — и потерпел сокрушительный провал. Полицейские агенты и платные осведомители клялись в своей лояльности, предавали анафеме коммунизм, а на вопросы защиты, почему они считают того или иного обвиняемого виновным, отвечали примерно так: «Конечно, он виновен: был бы невиновен, не сидел бы в тюрьме». Или: «Ну, как же: ведь он коммунист!»
Болезненно трудным для свидетелей обвинения оказался вопрос о причинах ареста обвиняемых: в большинстве своем полицейские или доносчики, они были обязаны на этот вопрос отвечать. Примерная логика их ответов была такова: «А — бывший андартес, Б — коммунист, я видел их беседующими на улице, при этом они смотрели по сторонам, и мне стало ясно, что речь идет о заговоре. Ведь КПГ — организация нелегальная».
— Какие же организации легальны?
— Полиция и жандармерия.
Такого рода свидетели не могли, конечно, сделать «лицо процесса». Одного прямо поставленного вопроса нередко было достаточно, чтобы свидетель начинал лепетать чушь либо вовсе сникал. Свидетели обвинения уже знали, где сидит Белояннис, и, давая показания, избегали поворачиваться в ту сторону, боясь, что нарвутся на его вопрос.
Когда же вслед за доносчиками и филерами вызвался дать повторные показания начальник отделения асфалии по подавлению коммунизма Ангелопулос и были предъявлены фотокопии переписки Белоянниса с одним из обвиняемых, Канелопулосом, — стало ясно, что больше за душой у полковника Ставропулоса ничего нет. Это была фальшивка, и фальшивка настолько банальная (трудно себе вообразить, чтобы два опытных подпольщика в частной переписке открыто обменивались мыслями о том, как устранить существующее правительство), что один из зарубежных корреспондентов в зале застонал и прикрыл рукою глаза. Это был провал, и провал полнейший.
Спокойно выслушав Ангелопулоса, Белояннис встал и задал резонный вопрос: почему эти документы были приобщены к делу только сейчас, на исходе первой десятидневки процесса, и где они были до сих пор? А кроме того, нельзя ли поподробнее рассказать об истории их обнаружения?
На эти вопросы Ангелопулос отвечать отказался — «исходя из соображений государственной тайны».
Двадцать семь дней продолжался этот процесс — без единого дня передышки, даже по воскресеньям. Цель была — измотать обвиняемых, лишить их возможности продуманно защищаться. Но первыми не выдержали такого сумасшедшего марафона сами судьи. Нервы полковника Ставропулоса сдали. С багровыми пятнами на щеках сидел он на председательском месте, угрюмо слушая свидетелей; когда же обвиняемые делали попытку задать вопрос, полковник вскакивал с места и, перегнувшись через стол, кричал:
— Заткнитесь! Я запрещаю вам задавать вопросы! Я прикажу вывести вас из зала!
Никос сидел в первом ряду, Элли — во втором. Поговорить им удавалось редко; на заседаниях Никос был предельно внимателен, сидел в постоянном напряжении, готовый в любую минуту подняться и задать быстрый и точный, как фехтовальный выпад, вопрос. Внимание всего зала было приковано к Никосу: как он слушает показания свидетелей, склонив голову к плечу и иронически улыбаясь, как, взявшись за подбородок (жест, который Элли больше всего любила), задумчиво перелистывает томик Байрона, и только по напряжению каждого мускула его лица Элли, не сводившая с него взгляда, понимала, что он весь внимание. Иногда он оборачивался к Элли, и они негромко переговаривались. Элли, улучив минуту, с улыбкой рассказывала Никосу, как забавно смеется и «гулит» их малыш, «крошечный Белояннис», потом со слезами на глазах вспоминала, сколько мук пришлось ей вынести в асфалии, когда она была на седьмом месяце и эти садисты, не смея уже подвергать ее физическим пыткам, старались всячески унижать и мучить ее морально. То ей сообщали, что Белояннис, не выдержав тяжести обвинений, покончил с собой, то, лицемерно соболезнуя, говорили, что он отрекся от нее и от ребенка, то заявляли, что Белояннис подписал «дилоси», согласился войти в коалиционное правительство в качестве независимого и рекомендует ей последовать его примеру в интересах «обновления Греции». После рождения сына стало совсем трудно. Мучители ее уверены были, что в руках у них мощное средство воздействия. Они грозили отобрать ребенка, передать его в сиротский приют, если она не подпишет «кое-какие ни к чему не обязывающие бумаги».
Читать дальше