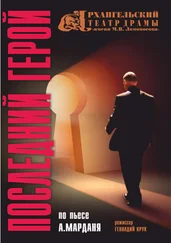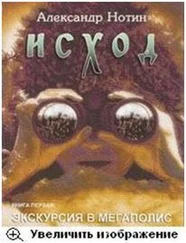— В книге Библии про все-все наперед написано, — говорила бабушка мне, шестилетнему, протирая извлеченные из чулана иконы после папымаминого отъезда. — А написано там, Сашуля, что будет дальше с людьми. И люди постепенно только понимают, верить начинают, когда все это наяву сбывается. Вот как так, а? Небо затяну-то будет паутиной! А? Это в Библии написано. А ведь это о проводах сказано-то, вот оно что на самом деле! Сейчас ведь как вверх на небо посмотришь, так и видишь провода от столбов. И еще написано такое в книге Библии: один человек скажет, а другие его за тридевять земель слышать будут. Это ведь, Саша, про радево сказано, про телефоны, про телевизоры. Видишь, как все сбывается.
— А мы в школе будем проходить эту книгу Библию? — спрашивал я.
— Нет, не будете. Мы раньше в гимназии женской проходили, а вам это ни к чему.
— Почему ни к чему, если там все правильно написано?
— «Почему, почему»… Начальство так решило, что ни к чему. Это, Саша, не твоего и не моего ума дело, — строго говорила бабушка. Но добавляла, что придет время и все старое назад вернется, и книга Библия — тоже.
А тогда я привыкал постепенно, что самое интересное и главное — это не моего ума дело. И привык потихоньку. И мне расхотелось читать книгу Библию, раз это не моего ума дело. А ждать, когда вернется к нам книга Библия, мне было скучно, и я читал то, что разрешало начальство.
Конечно, бабушка не больно-то распространялась в разговорах со знакомыми или соседями про свои отчеты в отдел НКВД на меланжевой фабрике. А то еще, чего доброго, ее обходить начнут, сторониться.
И свое собакинское происхождение бабушка таила даже от церковных кумушек, с которыми по субботам, до и после всенощной, обсуждала всю-всю ихнюю, да и свою родословную. Скрывать купеческое звание деда, гильдейного Димитрия-то Собакина, было нетрудно: самые старые бабки либо сидели дома и там молитвы шептали, либо перемерли. А те старухи, что помоложе, династию Собакиных если и помнили, то смутно, по каким-то детским своим сполохам воспоминаний.
Но однажды темным осенним вечером семидесятого, идя домой из детского сада, мы с бабушкой зашли в старинное здание музея, где работала бабушкина знакомая, маленькая, сухонькая старушка с буклями седых волос, которую бабушка называла странным именем — Эстер (тогда я думал — Истер, и слышался мне в этом имени какой-то намек на истерику, чудилась опасность какая-то). Они с бабушкой разговаривали о чем-то своем, а я разглядывал чучела волка, рыси и медведя, огромного орла, сову и ястреба, а потом вдруг поднял глаза и увидел дореволюционное фото нашего городка. И там, на большом фото, на фасаде одного из магазинов прочел на вывеске: «Собакинъ».
— Это что же, наш был магазин, бабушка? — стал я прямо в музее допытываться у бабушки, от которой часто слышал фамилию ее мамы — Собакина.
Бабушка сразу смутилась и стала какой-то беспомощной под удивленным, ставшим каким-то пристальным взглядом ее безобидной на вид знакомой. Отсморкавшись, бабушка лепетала: нетнет, это совсем другие Собакины, мало ли на свете Собакиныхто, Сашик…
Только лет через пять, будучи классе в пятом или шестом, копаясь в сундуке, что в чулане притулился, я обрел стопку непогашенных разноцветных векселей, выписанных помещиками егорьевскими в качестве долговых обязательств перед купцом второй гильдии Иваном, кажется, Дмитриевичем Собакиным. Иван Дмитриевич, стало быть, это отец Дмитрия Ивановича, «тяти» моей прабабушки — Марии Дмитриевны Собакиной.
Уфф!
Вот так оно все окончательно и разъяснилось.
7
Зачем прабабушка и бабушка хранили в чулане эти векселя, непреложно изобличающие их купеческое происхождение, — непонятно. Для порядка, наверно.
Да и трудно все-таки людям расстаться с затаенной мечтой о возвращении былого богатства. А вдруг? Все на свете бывает.
Последние золотые пятерки, по воспоминаниям бабушки, были отданы в качестве подношения искусному хирургу, который оперировал в захолустной — даже по егорьевским меркам — Фаустовской больнице Марию Дмитриевну Рязанову, урожденную Собакину. Перед войной это было, егорьевский «торгсин» как раз прикрыли, и две последние пятерочки так и не были обменяны на астраханскую сельдь «залом».
И случилось о ту пору несчастье: пыхнул в доме керогаз, обдало Марье Дмитриевне лицо огненной волной, да с керосиновыми брызгами, хорошо, глаза успела зажмурить. Мучилась сильно. Лучший ожоговый хирург — про то все в округе знали — работал в Фаустове, туда и повезли на лошади бабушкину маму. «Ори что есть мочи, тебе легче, дуреха, будет!» — приказывал врач легендарный Марье Дмитриевне, лежащей на операционном столе.
Читать дальше
![Александр Аннин Бабушка [журнальный вариант] обложка книги](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-cover.webp)