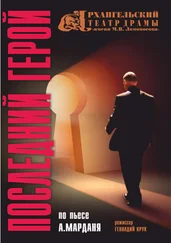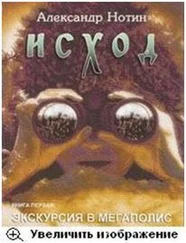Подарили его в последний год XIX столетия, то есть в 1900-й, моей прабабушке и прадеду на свадьбу. Нда, знатной чаевницей была Мария Дмитриевна, урожденная Собакина! По рассказам бабушки, сидят, «бывалоча», родители ее у самовара, пьет Мария Дмитриевна чашку за чашкой (из гарднеровского фарфора), оплывает потихоньку от испарины. А Николай-то Макарыч, весельчак да шутник, наклонится под стол, высматривает что-то на полу. Прабабка и спросит: ты, мол, чего там, Николай Макарыч, увидеть-то хочешь, а? Ну, он в ответ: не пойму я, Маша, куда у тебя столько чаю деется, лужи вроде под тобой не видать.
Много рассказывала мне бабушка долгими, скучными вечерами, когда мы остались с нею одни, о той внезапной, с первого взгляда, любви, что выпала на долю Марии Дмитриевны и Николая Макарыча. И не важно ей было, что из услышанного я понимаю, а что нет. Сама с собой говорила. Смотрит улыбчато и скорбно куда-то в сторону и вверх, обращается к кому-то невидимому.
И говорила она, что прабабке моей было тогда семнадцать лет, и тятя ее, «гильдейный» купец Дмитрий Собакин, оптом торговавший льном и пряжей, прихворнул. А надо — «хоть плыть, да быть» — в Москву. Ехать, значится, надо, какие-то бумаги отвезти в контору заказчиков, фабрикантов Хлудовых.
Их огромная фабрика, впоследствии названная «Вождь пролетариата», была и остается поныне в Егорьевске самой большой и красивой — с высокой башенкой, с правильными часами на самом верху. Бывало, остановится кто-нибудь напротив этой башни и давай подкручивать свои наручные часы — знали люди, что Хлудовские башенные показывают время точьвточь.
И была там баня, любимая в городе — она, слыхивал я стороной, и по сей день гонит свой пар на радость людям.
Еще на моей памяти эту фабрику называли постарому — «Хлудовский двор». За ним — «Хлудовские казармы», добротные кирпичные дома для рабочих. «Где бишь работаешь?» — «А на Хлудовском дворе». — «В какую баню пойти сегодня?» — «А пошли на Хлудовский двор, в казармы, там нынче старого истопника смена, уж он-то парку задаст». Пар поступал в облицованную кафелем парилку по трубе и был сырым, тяжелым и непроглядным.
Опять-таки чуть отступая вглубь да в сторонку. Был я последний раз в Егорьевске после долгой отлучки пять лет назад, в 2012 м, хоронил последнюю свою, старенькую совсем, двоюродную тетку Тамару. И горько было мне слышать в автобусе, по пути к собору Александра Невского, куда я спешил на отпевание: «У горпарка выходите?» Нда, вот так вот, официально — горпарк… А во времена моего детства и юности парк этот именовали как до революции — горсад. Не играл там духовой оркестр, как в старой песне, зато были танцы под вокально-инструментальный ансамбль. Теперь канули в небытие те наименования, те отголоски ушедшей старины — «горсад», «казармы», «ремесленный сад», «фубры» (это кирпичные бараки довоенного «фонда улучшения быта рабочих», именно так расшифровывается «фубр»).
Скажи нынче кому-нибудь: «Был я сегодня в корейском магазине», — так ведь не поймут, переспросят — мол, гдегде? А лет сорок — да какое там сорок, еще лет двадцать назад все знали, что «корейский» — это самый большой в старом городе магазин одежды, его до революции корейцы держали, торговали всякой всячиной. Мир вашему праху, корейцы егорьевские, сгинувшие в годину революции и похороненные неизвестно где.
Магазин, построенный на Соборной, а ныне Советской площади аж в семидесятых годах девятнадцатого века, во времена моего детства и юности именовали как до войны — «Мосторг», а напротив него — магазин-близнец, тоже продуктовый, называли «Торгсин». Там и впрямь вроде был торгсин в конце 30-х годов, перед войной…
Ну так вот о самоваре том — как памяти о вспыхнувшей горячей любви между прадедом и прабабушкой. Стал хворый Дмитрий Собакин думу думать: кого в Москву послать, в контору братьев Хлудовых? Жена его, Анисья, которую он в юности взял за красоту из деревни Бормусово, наотрез отказывается, боится ехать на «паровозе бесовском». А дочери взрослые все разъехались, замуж повыходили. Ольга Дмитриевна, бабушкина тетка, хоть и в городе с мужем своим проживала, с купцом Шишковым, да куда ей в Москву ехать — на сносях была. А хоть бы и праздная — не отпустит жену Шишков, негоже это, она теперь не отцова дочь, а мужняя жена.
Одна только Маша, младшенькая, красавица незамужняя, и осталась под рукою отца. Но девку отпускать в Москву не принято было без сопровождения мужчины-родственника…
Читать дальше
![Александр Аннин Бабушка [журнальный вариант] обложка книги](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-cover.webp)