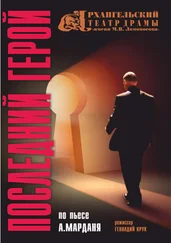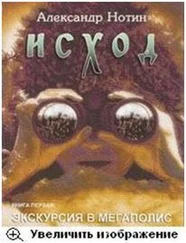— Ну, думаю, смерть моя пришла, давай, Ольга, Богу молиться напоследок, — вздыхает бабушка. — Уж вот он, паровоз, а тут меня сила какая-то отшвырнула в сторону, и нога в чулке из валенка выдернулась. Мужик надо мной стоит, грит: «Ты жива, баба? Дойдешь до дому? Валенок твой раздавило, босой ты осталась, дуреха». И пошел себе прочь. Я кричу ему: «Как звать тебя, милый человек? Молиться кому?» А он обернулся и грит: «Николай». Знаешь, кто это был, Санёга?
Я озаряюсь догадкой:
— Это папа твой был, наверно, Николай Макарыч! Он пришел с неба и спас тебя, да, бабушка?
Бабушка всплескивает руками:
— Николай Угодник это был, Саша! Вот кто это был! Вот кому надо молиться, и спасет. Хоть от голода, хоть от паровоза, хоть от энкавэдэ.
Бабушка ругала и костерила «энкавэдэ» очень редко, обычно она хвалила советскую власть, которая платит ей пенсию, хоть и крошечную, но зато работать не надо, не то что у капиталистов, там пенсии нет совсем и старики нищенствуют, а у нас старикам место уступают. Это свое всегдашнее выражение — «старикам место уступают» — бабушка повторяла безотносительно к себе самой, а так, вообще. Она никогда не ездила в городских автобусах, всегда ходила только пешком, потому что в то время у пенсионеров еще не было бесплатного проезда, а «прокатать» просто так целых пять копеек — а если в два-то конца, то это уже десять, кило картошки! — было для бабушки непозволительной роскошью, расточительством, хамством и делом безбожным.
Она никогда не была «активисткой», но на Октябрьску , осенью 69-го, водила меня на демонстрацию. Уж не помню, где были тогда папа, мама и Катя — где-то праздновали, поди, может, даже в Москве, у папиных фронтовых друзей или бывших университетских общежитских приятелей, у того же Марка Розовского, с которым оба были дружны.
Помню, что в демонстрации той шел весь Егорьевск, потому что надо же куда-то идти, не все же дома сиднем сидеть, а тут — все-все знакомые с тобой здороваются. Да ведь и положено идти на демонстрацию, как не пойти, когда все идут, из году в год? Положено так, а уж коли «не нами положено, то не нам и отменять».
С годами я стал относиться к такому усердию людскому с пониманием: все-таки развлечение какое-никакое в эту осеннюю хмарь, когда тоска заползает холодной змеею в жилище… Выпивать сподручней, спровористей, потому как не так стыдно, нет всегдашней хоть маломальской, да самоукоризны. Да и пьяным быть в этот мозглый день — всем и любому простительно, а может — кто-то встретится из знакомых и еще сообразим. И шли люди в серых и черных одеждах, с красными тряпочками на груди, продрогшие от мокрого снега и прихлебывающие из горла «для сугрева».
А вот первомайская демонстрация следующего, 1970 года была все-таки повеселей, понарядней смотрелись люди. И я тогда сидел на закорках у папы, и мне было жутко и захватывающе, неуютно и совестно, я переживал, что папе, наверное, тяжело, и он держит меня просто для того, чтобы чинчинарем выглядеть в глазах проходящей мимо толпы, в которой многие кричали маме свои поздравления, а мама к тому же и фотографировала папу со мною на закорках… Однако ж несмотря на все эти переживания, спускаться на землю мне вовсе не хотелось, я все глядел и глядел поверх плывущих мимо голов.
А ноябрьские демонстрации всегда представлялись мне грязными, холодными, пьяными и кровавыми: в раннем-прераннем детстве — может, в три или четыре годика — увидел я пьяное кровопролитие на демонстрации, и взрослые, увлеченные отвратным зрелищем, не успели закрыть мне глаза ладошкой, а может, им это и в голову не пришло, ведь они были убеждены, что я ничегошеньки не понимаю и никаких чувств испытывать просто не могу, как не может их испытывать наша бедная киска Лиска.
Часть вторая. Базарные дни
1
На мое шестилетие, в середине того дождливого июня 1970 года, папа с любовью настраивал нашу громоздкую гордость — катушечный магнитофон с косой надписью «Комета», прилаживал микрофон. И говорил в него, что сегодня Саша дает свое первое в жизни интервью.
— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? — спрашивал папа в микрофон и тут же протягивал его мне.
— Я хочу стать пожарником, — нудно, заученно отвечал я, отстраняясь от микрофона.
А потом папа фотографировал меня и Катю своим фотоаппаратом «ФЭД2».
— А ты меня не будешь обижать? — несколько раз спросила Катя, кривляясь перед микрофоном.
Странный вопрос! Я никогда ее не обижал.
Пожарным я быть не хотел, ну, то есть можно, конечно, все-таки это почти как летчиком… Но лучше летчиком, если уж не получится стать путешественником. А пожарным… Просто мимо бабушкиного дома с визгом, похожим на визг многих поросят, только поросят мертвых, визжащих с того света, проносились иногда две-три пожарные машины, и я замирал от ужаса, заслышав этот загробный визг, по затылку ползли морозные мурашки. И мои детские заявления, что, мол, хочу стать пожарником, были попыткой доказать, что я не боюсь.
Читать дальше
![Александр Аннин Бабушка [журнальный вариант] обложка книги](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-cover.webp)