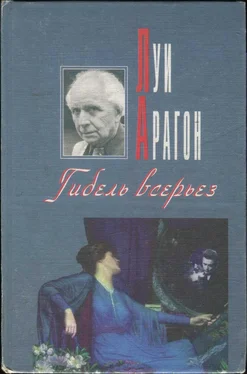В самом деле, расщепление человека еще можно как-то себе представить, хотя бы с помощью того же трехстворчатого зеркала, но отсутствие отражения, размывание его до полного исчезновения — ей-богу, не знаю, как объяснить подобное явление с медицинской или с любой другой точки зрения… впрочем, есть же незрячие люди, так почему бы не быть незримым или, по крайней мере, не видимым невооруженным глазом отражениям? Вдруг кто-нибудь изобретет прибор, позволяющий увидеть не воспринимаемые нами отражения; может, они подобны свету; мы называем его белым и считаем прозрачным, но стоит разложить его на спектр, — и открывается целый веер красок?
Либо, вполне возможно, когда-нибудь отыщется способ улавливать пропавшие отражения, фиксировать, усиливать их, делать видимыми, если окажется, что они атрофированы лишь частично или удалены на слишком большое, прямо-таки космическое расстояние; возможно, их начнут записывать с помощью какой-нибудь знаковой системы, вроде системы Брайля, да разве угадаешь заранее! — изобретут какие-нибудь полу- или недопроводники, какой-нибудь новый способ связи или бессвязности (это уже напоминает моего любимого Пушкина!), какие-нибудь сверхтранзисторы, так что больной сможет, не поднимая переполоха в семействе, поймать или даже услышать, пощупать свой собственный образ… То-то будет раздолье романистам. Вообще, о каких бы достижениях науки ни заходила речь, я, чтобы выяснить свое к ним отношение, должен представить себе, как они скажутся на моем ремесле, что изменится в процессе создания героев, и главных, и второстепенных. Так мне, во всяком случае, кажется, но не исключено, что за всеми теоретическими рассуждениями кроется совсем другое, и втайне я озабочен тем, как бы проникнуть в подлинную, не имеющую ничего общего с моими измышлениями, жизнь моей возлюбленной, поймать среди эфемерных отражений ужасающе реальный предмет моей ревности. Я Верю, что возможности человеческого познания безграничны, но мне известно, доподлинно известно, что «во многом знании многая и печаль» и никакое знание никогда не уверит человека в том, что он любим.
Вот почему я никогда не удовольствуюсь знанием, и оно никогда не избавит меня от потребности лгать. Ложь в природе человека. Кто это сказал? Наверно, я сам. Именно благодаря этому врожденному свойству человек развивается, совершает открытия, изобретает, завоевывает… Что, как не пристрастие к «гипотетическому», позволяет ему выйти за рамки своего или чужого чувственного опыта? Разве может, разве способен лгать муравей? Высшая же форма лжи — роман, ибо в нем с помощью лжи постигается истина. Этот идиот Кристиан еще будет мне толковать о Роберте Льюисе Стивенсоне! Да что он понимает в Стивенсоне? Только то, что Роберт Льюис пожелал высказать, и лишь в той мере, в какой отождествляет писателя с его героями… к чему мы все склонны. Взять хотя бы «Историю доктора Джекиля», о которой Стивенсон так удачно выразился в письме к Эндрю Ленгу: I want to write about a fellow who was two fellows… «я собираюсь написать об одном человеке, в котором было двое»… значит, свой вымысел он обдумал заранее, а потом уже, как говорится, единым духом, была написана повесть, или, наоборот, плод чудесного наития он решил выдать за создание разума; но в обоих случаях Р. Л. С. солгал. А известны ли Кристиану слова Честертона, относящиеся к тому же Роберту Льюису: Why should he be treated as a liar, because he was not ashamed to be a story teller?
To же самое я могу сказать о себе: как же обвинять его во лжи, раз он открыто признает себя сочинителем?
Второе письмо к Омеле, повествующее о зеркале без амальгамы
Омела! В первой сцене четвертого акта — то есть когда основные события драмы, озаглавленной «Буря», были уже позади, Вильям Шекспир устами Просперо, отдающего свою дочь Миранду в жены Фердинанду, объявляет, что все предыдущее было лишь испытанием их любви, и, превратив подвластных Ариэлю духов в простых актеров, велит им разыграть «Маску», то есть представление, устраивавшееся обычно на королевских свадьбах. А потом Шекспир произносит нечто такое, перед чем блекнут все прочие строки этой пьесы. Весь мир, говорит Просперо своему новоявленному сыну, роскошные дворцы и величественные храмы — да весь шар земной растает, словно дым, не сохранится и следа, как от этих бестелесных масок… И далее…
… we are such stuff
As dreams are made of, and our little life
Is rounded with a sleep…
«Мы созданы из вещества того же, что наши сны. И сном окружена вся наша маленькая жизнь…» [41] Перевод Мих. Донского.
Каково, Омела? По-твоему, Шекспир выдумал Просперо, Калибана, Ариэля, Миранду, Фердинанда, и остров, и бурю, и еще целый мир где-то за пределами сцены, с министрами и королями, — только ради того, чтобы иметь повод сказать в четвертом акте, что жизнь есть сон, короткий сон во тьме вселенной ночи, или же… Или придумал сначала все перипетии Просперо и Sycorax, короля Неаполитанского и герцога Миланского, в пещере и на тонущем корабле, и весь ход действия привел автора к мысли, высказанной волшебником: «Мы созданы из вещества того же, что наши сны» и так далее… Попробуй разберись! Достижения современной науки, этой новой магии, наполнили предсказание Просперо весьма осязаемым смыслом, и, возможно, завтра мы все, а не только театральные короли и вельможи, погрузимся в извечный сон неодушевленной природы, вот почему мы склонны думать, что об этом и только об этом хотел сказать и сказал, проведя нас сквозь блестящий лабиринт, великий Актер, тот, что выходит в конце пьесы на поклон и просит публику о снисхожденье.
Читать дальше