Где-то на половине пути я выбрался из терема, выскользнул из лукошка и спрыгнул на землю. Оказалось, что я на знакомой дороге, совсем недалеко от дома. И этой дорогой вернулся я домой.
Синица уже протопила печку, напекла блинов и ждала меня на крыльце, сидя под платочком и глядя на дорогу. По глазам синицы я понял, что ей очень грустно. Она увидела меня издали, помахала рукой и направилась в избу накрывать на стол. Мы сидели за столом, ели блины, пили молоко, светила керосиновая лампа, и синица спрашивала:
— Кто по лесу идет, кто песню поет, а кто сидит на крыльце и смотрит на дорогу?
Поутру, когда поднимется ветер, по крыше покатятся листья. Первый лист покатится с грохотом, как бричка. А потом уже другие полетят вдоль конька стаями, толпами — с шелестом. Теперь покажется, что над избой развеваются легкие шелковые одежды.
Я выхвачу из ведра свой большой деревянный ковш. Я выбегу с ним на крыльцо. Воздух сделался золотым и алым, в нем кружится голова и вьется такой шум, словно тысячи птиц пролетают.
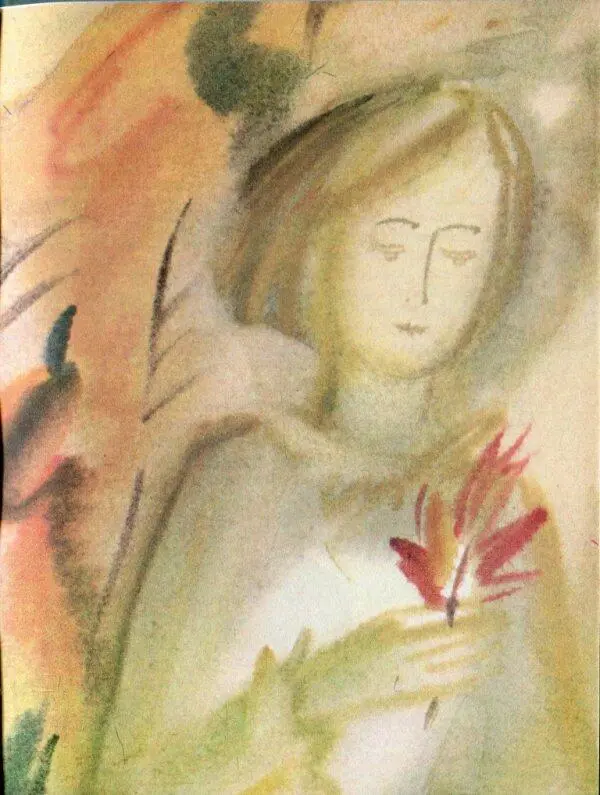
Я зачерпну из воздуха листвы, и мой деревянный ковш загудит, как бы наполненный пчелами. Я ковш этот принесу к столу, листва, еще не остывшая от бега, осядет, успокоится, и вся изба наполнится светом. Как это бывает, когда ударит заря. Ковш нужно подержать перед глазами, прежде чем пить из него.
Эге-ге-гей! Ты, прохожая девушка! Зайди сюда. Такое раннее утро. Плесну тебе из моего ковша, умоешься, и все твое лицо засветится веснушками, и руки станут золотыми. С такими золотыми руками ты никогда не пропадешь.
Или ты! Э-ге-гей! Прохожий! Подойди ко мне под окно и попроси напиться. Я напою тебя из этого ковша. Пройдет всего лишь год, и кто бы ты ни был, куда бы ты ни ушел, — в глуши квартир или на широких крыльях океана, — вдруг заслышишь далекий голос листопада.
Ты сам вдруг зашумишь, как этот лес. В тебе запламенеют осины, зашелестят березы. И мягко будут садиться в твои ладони светящиеся листья кленов.
Какой просторный, светлый встанет этот лес!
Иди сюда, выпей глоток из моего ковша. А если хочешь, тоже умойся.


Горы висели в дымке. Где-то далеко, может быть, в Туве, горела тайга. Дымка текла из ущелья в ущелье, подсвеченная зарей, и колыхалась в безветрии. В сумерках слышалось, как падают невдалеке шишки под неслышной прытью бурундука.
Из глубины ущелья прокричал и осекся олень. Будто кто-то выстрелил в него. И эхо пошло по горам, то удлиняясь, то укорачиваясь в осеннем воздухе вечера. И горы закачались вдоль эха, не все разом, а с промежутками, чуть приметными для глаза. Все вдаль и вдаль.
Эхо, длинное, ходило и не гасло.
И вдруг увесисто посыпался нечастый дождь. И вспыхнул весь, подхваченный закатом. Дождь накрыл эхо шелестом и погасил тяжестью своей.
Я даже огорчился. Но потом представилось мне, что эхо все-таки ходит вдали. И даже его, пожалуй, слышно.
Конечно, слышно.
Я слышу его до сих пор — под дождем и под снегопадом, среди грохота и гула проспектов. Я слышу его и сию минуту, только стоит немного уйти в себя.
То случилось на берегу Архыза. Мы шли рослым лугом, цветы которого горели где-то высоко над головой. Цветы тяжелые. Каждый не меньше снегиря или сизоворонка. Я шел впереди, мой друг немного приотстал.
Луг обрывался на высоком берегу. И стоит среди спокойного, но все же быстрого, очень синего, я помню это, потока олень. Рыжий, статный. Пьет, слегка коснувшись речки легкими губами. А сам о чем-то думает.
Это было на западном склоне Кавказа.
Там олень рассекал теченьице губами, словно плыл вверх по реке. Я окликнул его, он поднял голову. Олень этот раскинул рога над водой и смотрел на меня. Он рога раскинул так, как это делают порой для широкого приветствия. А один греческий юноша своими бронзовыми руками так приветствовал бога.
— Пойдем со мной, — сказал я. — Пойдем шагать вместе. Нам будет веселей.
— Пойдем, — сказал олень.
И вышел из реки. Но тут подоспел мой приятель, он показал голову и плечи среди цветов. Олень замер. Он длительно посмотрел на меня, молча покачал головой, улыбнулся и пошел своей дорогой.
Читать дальше

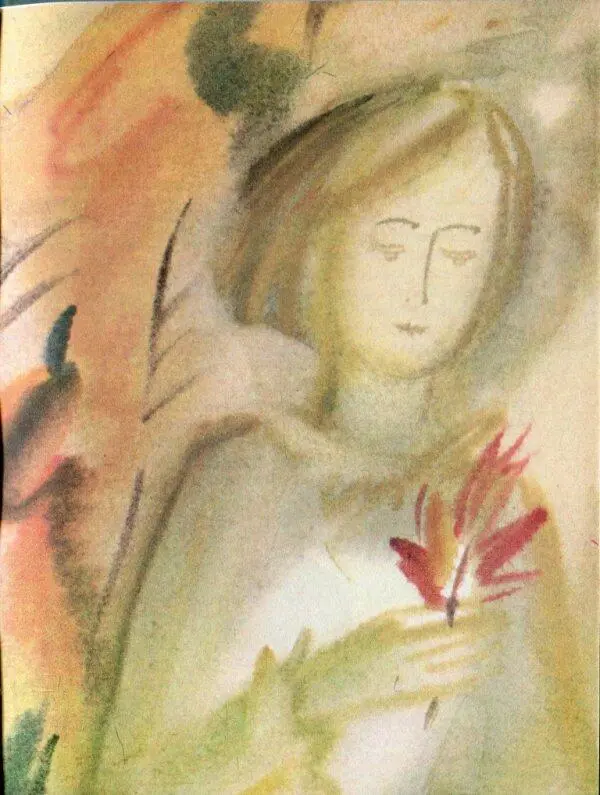




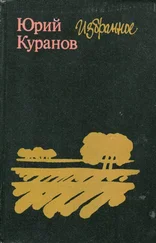
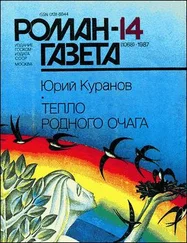




![Юрий Корочков - На крыльях Зари [litres самиздат]](/books/437369/yurij-korochkov-na-krylyah-zari-litres-samizdat-thumb.webp)

