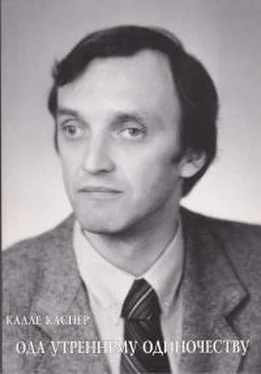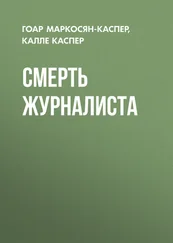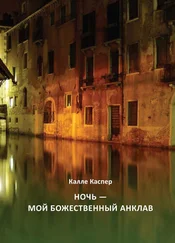Альгирдас появился на свет в товарном вагоне по дороге в Сибирь, что мне сразу напомнило историю брата моего деда Самвела, родившегося в арбе, когда мои прадед с прабабкой бежали от турков. Наверное, чувства дяди Самвела к младотуркам были сравнимы с отношением Альгирдаса к Сталину — наверное, расспросить об этом дедова брата я не мог, потому что лет за десять до моего рождения он погиб под Сталинградом, защищая, таким образом, именно то государство, которое Альгирдас ненавидел. То ли Альгирдас подсознательно стремился вновь посетить места, где провел свое детство (откуда его, впрочем, уже через год отправили обратно домой), то ли в ходе бракоразводных процессов он успел свыкнуться с судебным залом, но, ругая власти, слов он не выбирал, и мне частенько приходилось пихать его локтем на семинарах, когда он начинал слишком уж откровенничать.
Говоря, что Альгирдас посвятил себя не искусству, а свержению власти, я, конечно, позволил себе некоторую гиперболу, вообще-то сценаристом хотел стать и он, но при том считал нонконформизм более важным профессиональным качеством, чем умение владеть интригой. Ему казалось, что у наших преподавателей-приспособленцев учиться нечему, и потому на лекциях он бывал редко, только на тех, где проверяли посещаемость, но, словно по иронии судьбы, самые обязательные лекции были по предметам политическим, и потому ненависть Альгирдаса к власти все росла. Это был заколдованный круг: пропускать занятия по, допустим, научному коммунизму он побаивался, поскольку это могло стоить ему стипендии, как талантливый человек он осознавал свой страх и сердился на себя за него, но поскольку долго держать злость на себя невозможно, то он и переносил это чувство на власть.
Свое бесповоротное мнение, что однажды продавшийся человек уже не способен ни на одну ценную мысль, Альгирдас распространял и на книги: к писателям, которых в Советском Союзе издавали, он относился с большим подозрением, к Бальзаку в том числе. И, наоборот, если ему попадал в руки самиздат, то пальцы Альгирдаса сразу начинали дрожать, но не от страха, как у многих, а от волнения.
Хотя я считал советскую власть примерно такой же неизбежностью, как четыре времени года, это не мешало нам сохранять добрососедские и даже дружеские отношения. Альгирдас был далеко не глуп и прекрасно понимал, что армяне русский империализм в определенном роде приветствовали, ибо в ином случае нас, может, уже и не существовало бы. Но приложить это к себе он не мог. Он рассказывал мне о депортациях, а я ему о геноциде, и так мы и жили как будто в двух разных мирах. Я поведал ему, как в двадцать первом году, когда мои прадед с прабабкой бежали через покрытый льдом Аракс, одна из сестер моего прадеда упала в прорубь и утонула, Альгирдас же с грустью поминал отца, который потерял в Сибири здоровье и умер вскоре после возвращения в Литву. Один из моих довольно близких родственников тоже, кстати, остался лежать в Магадане, как, наверно, почти у всех советских семей, но, несмотря на это, я относился к идеологическим речам директората всего лишь с холодным равнодушием, Альгирдас же, наоборот, прямо-таки кипел от ярости, доказывая этим, что северяне иногда бывают темпераментнее южан.
Устав от антисоветской агитации, я шел через коридор играть в шахматы к бессарабскому русскому Аполлону Карликову. Рост Аполлона полностью соответствовал не имени его, но фамилии и был обратно пропорционален самооценке, исторические примеры чего наблюдались и раньше, например в случае с неким корсиканцем. Вместо меча Аполлон старался пробить дыру в вечность пишущей машинкой, будучи убежден, что именно на нем лежит обязанность написать нового «Мастера и Маргариту». Но для этого, по мнению Аполлона, надо было вначале заложить должную экономическую основу. Он намеревался написать и продать несколько киносценариев и лишь после этого отдаться настоящему творчеству.
Аполлон был настоящим франтом и уделял непомерно большое внимание своей одежде. В наши дни в джинсах ходит каждый грузчик, но в те времена этот предмет был большим дефицитом. У Аполлона была целая коллекция джинсов разного оттенка и покроя, которые он менял соответственно погоде. С дождем, по его мнению, хорошо сочетались чернильные, с солнцем — небесного цвета. К Соединенным Штатам как родине джинсов он относился с большим почтением и не уставал рассуждать о том, какой богатой могла бы стать Россия, если бы Корнилову удалось подавить большевистский бунт и восстановить конституционный порядок. Когда я заметил, что наиприятнейшим следствием этого оказалось бы то, что Арарат остался бы в пределах Армении, Аполлон улыбнулся и гордо сказал: «России!» В шахматы он играл плохо, и я его легко переигрывал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу