С того времени, как его финансовые дела потерпели крах, с 1827 по 1836 год, судьба Бальзака во многом походила на пожизненное рабство Достоевского. В самом деле, как раз в этот самый период Достоевский, чтобы отвязаться от кредиторов, предпринял перевод «Евгении Гранде». Достоевскому и Бальзаку, испытавшим непомерные страдания и лишения, предстояло стать крупнейшими прозаиками XIX века, им было позволено приоткрыть нам щелочку в мир, какого остальные писатели до них не касались и даже не могли себе вообразить. Закабаленным собственными страстями, прикованным к земле сильнейшими желаниями, им все же удалось через страдания своих героев проявить целые миры, неведомые и невидимые всем, кроме, как писал Бальзак, «душ, подготовленных служить вере среди высших существ, способных обнаружить мистическую лестницу Иакова» [132]. И Достоевский, и Бальзак верили в рассвет нового мира, хотя современники нередко обвиняли их в патологии, циничности, пессимизме и безнравственности.
Я не любитель Бальзака. Для меня «Человеческая комедия» первостепенного значения не имеет. Мне по душе иная комедия, озаглавленная «божественной», явно с намеком на нашу великую неисправимость. Но без знания «Серафиты», составляющей главную тему данного эссе, а также, возможно, «Луи Ламбера» нельзя по-настоящему понять жизнь и творчество французского писателя. «Серафита» – краеугольный камень великого строения, символически воздвигнутого Бальзаком на рассвете нового века. «А снаружи, – пишет он в концовке романа, – пылало во всем своем великолепии первое лето девятнадцатого века». Прошу заметить, что он пишет «снаружи». Потому что «Серафита» зародилась в утробе нового дня, который только сейчас, сто лет спустя, начинает проясняться.
В 1830 году, в разгар самого изнурительного периода его жизни, Бальзак поселился на улице Кассини, «на полпути от ордена кармелитов, – вспоминает он, – до гильотины». Здесь-то и начались настоящие Геракловы подвиги, которыми славится Бальзак и которые, без сомнения, укоротили ему жизнь наполовину. Ведь в более или менее нормальном ритме он прожил бы лет сто или больше. Чтобы дать представление о его занятости в тот период, кратко укажу, что за 1830 год ему приписывают написание семидесяти публикаций, а за 1831‑й – семидесяти пяти. В письме своему издателю Верде в 1835 году он пишет: «Ни один писатель не смог бы сделать за год столько… Любой другой бы умер». Он упоминает семь книг, которые только закончил, а также политические статьи для «Кроник де Пари». Важно отметить, однако, что одной из семи работ, которые приводит Бальзак, была самая необычная в его творчестве и, возможно, одна из самых своеобразных во всей литературе – «Серафита». Как долго он ее на самом деле писал – неизвестно: первая часть книги появилась 1 июня 1834 года в «Ревю де Пари». Целиком «Серафита» была издана в декабре 1835 года вместе с «Луи Ламбером» и рассказом «Изгнанники», сборник назывался «Мистическая книга». Критики, судившие о «Серафите» по трем частям, опубликованным в журнале, назвали роман «невразумительной вещицей». Тем не менее первое издание книги разошлось за десять дней, а месяцем позже – и второе. «Не такая уж плохая судьба для невразумительной вещицы», – заметил Бальзак.
«Серафиту» Бальзак написал специально для госпожи Ганской, с которой он поддерживал переписку всю свою жизнь, с момента получения ее первого письма. Книга была задумана во время поездки в Женеву, а в декабре 1833 года, спустя всего три месяца после встречи с госпожой Ганской, рукопись была начата. «Серафита» должна была стать, по собственным словам Бальзака, «шедевром, каких еще не видывал свет». И она стала им, несмотря на все огрехи, пророчества критиков и явное пренебрежение и злословие, выпавшие на ее долю. Сам Бальзак никогда не сомневался в ее ценности и уникальности, что иногда случалось по отношению к другим его произведениям. Включенная впоследствии в «Человеческую комедию», она на самом деле является частью «Философских этюдов». В посвящении госпоже Ганской Бальзак говорит о романе как о «созданной неким добропорядочным художником балюстраде, на которую опираются пилигримы, любуясь клиросом какого-нибудь изящного храма и размышляя о смертности человека». Разделение книги на семь частей имеет, разумеется, оккультный смысл. Повествовательные эпизоды перемежаются отступлениями и размышлениями, что для работы не столь выдающейся было бы убийственно. Рассматриваемый же с точки зрения внутренней логики (а иное прочтение его невозможно), роман являет собой образец безупречности. Бальзак сказал все, что хотел сказать, – притом быстро, точно и красноречиво. Мне вспоминаются последние квартеты Бетховена, где воля торжествует в своей подчиненности высшему замыслу.
Читать дальше
![Генри Миллер Мудрость сердца [сборник] обложка книги](/books/423531/genri-miller-mudrost-serdca-sbornik-cover.webp)




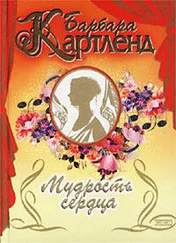


![Генри Миллер - Этот прекрасный мир [сборник]](/books/416436/genri-miller-etot-prekrasnyj-mir-sbornik-thumb.webp)
![Генри Миллер - Замри, как колибри [сборник]](/books/423532/genri-miller-zamri-kak-kolibri-sbornik-thumb.webp)