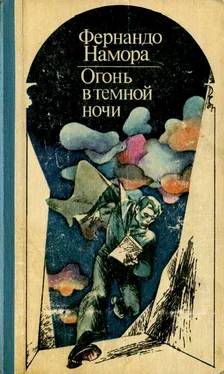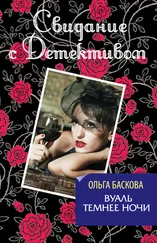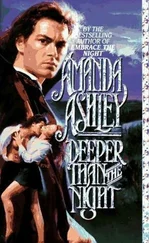— Как это звучит на хорошем галльском языке, друг Тадеу?
— Gibet [21] Виселица (франц.).
, кажется мне.
— А!.. — пробормотал француз, все еще сконфуженный.
В то время как иностранец с аппетитом разрезал омлет, улыбаясь кому-то, Аугусто Гарсия начал говорить. В любой момент ждали, что он скажет нечто приятное; но даже если так оно и было, он тотчас умолкал, доставляя только себе удовольствие, которое могли вызвать его слова. Улыбка у него получилась скупой, сдержанной. Зе Мария, потеряв аппетит, вновь открыл книгу и исподлобья наблюдал за поэтом.
— Когда у тебя экзамен? — спросил Жулио.
— Еще не знаю. Я не пойду по первому вызову.
— Ему не нравятся волнения на короткий срок, — пошутил Тадеу.
— Это более правдиво, чем вы предполагаете, — промолвил Зе Мария с обычной для него резкостью.
— Mes amis [22] Друзья мои (франц.).
, вы мало говорите о ваших занятиях… — прокомментировал иностранец.
— Мы стараемся забыть то, что никто нам не помогает ценить. А вы мало говорите о войне…
— Са, c’est autre chose [23] Это другое дело (франц.).
, — уточнил, всплеснув руками, тот, раздосадованный. — C’est autre chose. Серьезные вещи, близкие сердцу вещи не допускают легкомысленных разговоров. Vous comprenez? [24] Вы понимаете? (франц.).
У меня два брата на войне. Живы ли они или погибли? Кто может сейчас знать это? Во всяком случае, я нахожусь здесь, ем омлеты в спокойном городе. Vous comprenez, vous, Жулио?
Жулио чувствовал жар и озноб во всем теле.
— Андрэ! Как-нибудь мы уедем вместе.
Выражение лица Марианы неожиданно изменилось при этих словах.
Это был вызов и упрек. Мариана, пожалуй, может расслабить его, искалечить его жизнь. Он кончит тем, что возненавидит ее?
— Мне бы очень хотелось этого, Жулио. Но борьба идет и здесь. Нужно, чтобы кто-то жертвовал собой и находился далеко от тех мест, где умирают друзья и родственники, во имя того, чтобы Франция выжила, был далеко, mon ami [25] Друг мой (франц.).
, никогда не зная, живы или нет его товарищи и родственники. Есть много способов борьбы за свое дело. Vous savez [26] Вы знаете (франц.).
, что здесь также важно сражаться с врагом. Но этого мне недостаточно, вы ведь знаете, Жулио. Недостаточно. Я борюсь, я ем омлеты за столиком кафе в этом буржуазном мире, в то время как мою семью или преследуют, или мучают, а может быть, и убили? Я не знаю, что и подумать. Во всяком случае, je me sens un salaud [27] Я чувствую себя мерзавцем (франц.).
.
В глазах Андрэ можно было прочесть недовольство и гнетущее беспокойство, или же призыв, обращенный к кому-нибудь, возразить ему. Но все они скрывали свою неловкость, не найдя подходящего утешительного слова для иностранца.
Он, Силвио, не имевший никакого отношения к тем посторонним, тоже почувствовал, как у него сжимается сердце.
— Excusez-moi [28] Извините меня (франц.).
. — Андрэ провел рукой по своим коротким взъерошенным волосам.
«Борьба идет и здесь», — повторил про себя Жулио. Так он всегда отвечал на свою неустойчивость, сумасбродное стремление к авантюрам и риску, на свое презрение к земле, по которой он ходил. Он видел, как перед его глазами проходили группы напуганных беженцев, пересекавших границы, многие из них без цели и без связей, гонимые лишь страхом или надеждой, которая не могла принести им славы и ради которой они редко набирались храбрости бороться. Большинство из них были буржуа, которые бежали, действительно бежали, продавая по пути все, что представляло интерес для других буржуа (еще более низко падших), бежали, как крысы, в отчаянном поиске места, где бы они могли продолжать свою эгоистичную и развратную жизнь. Они не думали ни о родине, ни о товарищах, живых или мертвых. Они бежали, как крысы с потерпевшего крушение корабля. Как крысы. Бегство, только бегство! Но Андрэ не бежал. Не бежали и те, кто легально или нелегально, как тот парень из Тулузы, покидал эту бегущую толпу и отправлялся с первым пароходом, с первым самолетом, обрезая все связывающие их корни, туда, где они могли принести в жертву свою жизнь ради надежды миллионов. Андрэ не был salaud. Его жертва, состоявшая в том, что он находился далеко от пуль, имела ужасную цену. Его драма была одной из самых острых.
Силвио не мог угадать чувства тех юношей. Их беседа с иностранцем вызывала в нем смешанное чувство ослепления и неполноценности. Они беседовали как люди, готовые к великим свершениям, показывая ему еще раз узость его кругозора. Книга не помогла ему подняться на должную высоту. Ему не хватало мостика, более крепкой опоры, чем стихи и мечты; не хватало человеческого участия. Нужно было, чтобы кто-то из них поднял его с земли и поставил на ноги.
Читать дальше