Ну ладно, все это так – в качестве введения в общий сексуальный бедлам, характерный для того времени. Такое впечатление, будто квартируешь где-нибудь в Стране Ебли. Вот, к примеру, девица с верхнего этажа: время от времени, когда жена давала концерты, она спускалась к нам присмотреть за малышкой. С виду она была такой фефелой, что поначалу я ее как-то даже и не замечал. Но у нее, как и у любой другой особы женского пола, тоже была пизда – этакая личная безличная пизда, наличие которой она бессознательно осознавала. И чем чаще она к нам спускалась, тем отчетливее она это осознавала – все в той же своей бессознательной манере. Однажды вечером, запершись в ванной комнате, она просидела там подозрительно долго, что навело меня на кое-какие размышления. Дай, думаю, загляну в замочную скважину и любопытства ради посмотрю, что там да как. Стыд мне и срам, если она не стоит сейчас перед зеркалом и не примурлыкивает, любовно подрочивая свою крошечку-хаврошечку. Клянусь, так оно и было. Я до того разволновался, что не сразу сообразил, что предпринять. Вернулся в большую комнату, погасил везде свет и развалился на тахте, поджидая, когда она выйдет. Лежу себе, а в глазах – все эта ее кудлатая пизда и так это побренькивающие по ней пальчики. Я расстегнул ширинку и отправил своего елдака пошаболдаться чуток в прохладе сумерек. Оттуда, с тахты, я пытался воздействовать на нее посредством месмеризма, или, скорее, не мешать делать это своему охламону. «Ну давай, шилохвостка, хорош возиться, – твердил я мысленно, – иди нахлобучь на меня эту папаху». Похоже, она моментально приняла сигнал, потому как сразу же отворила дверь и ощупью стала пробираться к постели. Я не вымолвил ни единого слова, не сделал ни единого жеста. Просто сосредоточил все свои мысли на ее пизде, неслышно, аки вошь, передвигавшейся в темноте. И вот она уже возле тахты. Тоже ни гугу. Встала и стоит, а когда я скользнул рукой ей вверх по ляжке, чуть сдвинула ногу, чтобы обеспечить более свободный доступ в промежность. Не помню, чтобы я хоть раз в жизни запускал руку в такую сочную минжу. Будто клейстер расползался у нее по ляжке, и, окажись тогда у меня под рукой пачка афиш, то с дюжину, если не больше, я бы, пожалуй, уж точно наклеил. Через пару секунд так же легко и непринужденно, как корова нагибается пощипать травки, она склонилась надо мной и вобрала его в рот. И вот уже чуть не вся моя пятерня работала у нее внутри, яростно взбивая пену. Рот ее наполнился до отказа, и по ногам потек сок. Между нами, повторяю, ни слова. Мы напоминали парочку тихих маньяков, орудующих в темноте, точно два гробокопателя. Это был ебущийся Рай, и я понимал это и готов был, если понадобится, уебаться до полного охуения. Она была, наверное, самой ебливой из всех, кого я когда-либо имел. Пасть свою она так и не разинула – ни в ту ночь, ни в другую, ни в какую бы то ни было вообще. А ведь она частенько пробиралась к нам под покровом темноты, едва учуяв, что я один, и обделывала меня своей пиздищей с головы до пят. Но что это была за пизда! Как вспомню… Гигантская – темный подземный лабиринт, в котором предусмотрено все: и диваны, и укромные уголки, и резиновые зубки, и оросительные приспособления, и мягкие гнездышки, и гагачий пух, и листья шелковицы. Я тыкался в нее носом, точно глист-солитер, и зарывался в узкую щель, где стояла такая тишь, гладь да божья благодать, что я вытягивался, как дельфин на устричной отмели. Легкий толчок – и я уже покачиваюсь в пульмановском вагоне, читая газету, или же попадаю в глухой забой с замшелыми грудами каменного угля и крохотными прутяными воротцами, которые автоматически открываются и закрываются. Иногда это было как на пляжных катальных горках: крутой спуск, бултых! – и тебя обдаст щекотом крабьих клешней, встревоженно всколыхнется камыш, и целая стая мелкой рыбешки заплещется плавниками о твое тело, будто трогая лады гармоники. В просторном черном гроте скрывался мыльно-шелковый орга́н и звучала плотоядная черная музыка. Когда девица добиралась до самых высоких регистров, когда щедро поливала меня соком, музыка приобретала фиалково-пурпурный, шелковично-багровый окрас заката – чревовещательного заката, каким наслаждаются, когда менструируют, коротышки и кретины. Это навело меня на мысль о жующих цветы людоедах, о банту, впадающих в амок, о диких единорогах, спаривающихся на рододендроновых ложах. Ничто не имело ни имени, ни формы: Джон Доу и жена его Эмми Доу; над нами резервуары газа, под нами – жизнь моря. Выше пояса, как я уже говорил, она была совершенная мымра. Нет, ну совсем ку-ку. Хотя, впрочем, на ходу и на плаву. Быть может, именно это и делало ее пизду столь восхитительно безличной. Такая пизда была одна на миллион – настоящая антильская жемчужина вроде той, что нашел Дик Осборн, читая Джозефа Конрада. В бескрайнем тихоокеанье секса лежала она – сверкающий серебряный риф, окруженный людьми-анемонами, людьми – морскими звездами, людьми-мадрепорами. Только какой-нибудь Осборн и мог отыскать такую, располагая точными данными о широте и долготе пизды. Встречать ее среди дня, смотреть, как она по-тихому сходит с ума, – это все равно что с наступлением ночи заманивать в капкан куничку. Все, что от меня требовалось, – это залечь в темноте с распахнутой ширинкой и ждать. Она была как Офелия, внезапно воскресшая среди кафров. Ни одного слова не могла припомнить – ни на одном языке, а на английском и подавно. Как глухонемая, которая потеряла память, а вместе с памятью и фригидер, и завивочные щипцы, и маникюрные принадлежности, и ридикюль. Она была даже более голой, чем рыба, если не считать пучка волос между ног. И даже более скользкой, чем рыба, – как-никак у рыбы хоть чешуя есть, а у той – ничего похожего. Временами невозможно было понять, то ли я в ней, то ли она во мне. Это была борьба всеми доступными способами, этакий новоиспеченный панкратий, когда каждый кусает свой собственный зад. Любовь между тритонами – и без цензурных ограничений. Любовь без пола и без лизола. Инкубаторская любовь – та, что в ходу у «росомах» за верхней границей полосы лесов. По одну сторону Северный Ледовитый океан, по другую – Мексиканский залив. И хотя в открытую мы ни разу об этом не упоминали, при нас постоянно находился Кинг-Конг – Кинг-Конг, прикорнувший в обломках затонувшего «Титаника» среди фосфоресцирующих останков миллионеров и миног. Никакой логике не под силу было отогнать Кинг-Конга. Кинг-Конг – это гигантский бандаж, поддерживающий быстротечную боль души. Свадебный торт с волосатыми ногами и руками в морскую милю длиной. Вращающийся экран с бегущей строкой новостей. Дуло так и не пущенного в ход револьвера; лепрозный больной, вооруженный гонококковым «обрезом».
Читать дальше
![Генри Миллер Тропик Козерога [litres] обложка книги](/books/420505/genri-miller-tropik-kozeroga-litres-cover.webp)




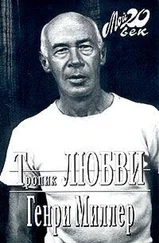



![Кристофер Браун - Тропик Канзаса [litres]](/books/414877/kristofer-braun-tropik-kanzasa-litres-thumb.webp)
![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/429004/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)