Ты погрузилась в воды реки.
Я пила твою кровь.
Я принесла тебе молоко.
Ты забыла мне улыбнуться.
Я любила тебя.
Ты сделала мне больно.
Ты вернулась ко мне.
Ты меня бросила.
Я ждала тебя.
Ты моя.
Ты моя.
Ты моя.
* * *
Это была совсем маленькая церковь, не больше обычного дома. Деревянные скамьи были без спинок, а поскольку прихожане сами исполняли обязанности хора, то специального места для него не требовалось. Люди побогаче специально пожертвовали некую сумму на строительство кафедры для пастора, чтобы он несколько возвышался над своей паствой, однако особой необходимости в этом не было — нельзя же ему было стоять выше белого дубового креста, который уже занял самое подходящее место. Прежде чем стать церковью Святого Спасителя, этот дом служил бакалейной лавкой, где боковые окна были ни к чему, а окна фасада использовались как прилавок. Они были заклеены бумагой, пока члены конгрегации решали, то ли закрасить стекла, то ли повесить на окна шторы — им хотелось одновременно и обрести уединение, и не потерять того небольшого количества света, которое, возможно, посетит церковь. Летом двери постоянно оставались открытыми навстречу ветерку. Зимой железная печка в приделе грела, как могла. Перед главным входом было крепко сколоченное крыльцо, где обычно прежде сиживали покупатели бакалейной лавки, а дети смеялись над историей про мальчишку, который сунул голову между прутьями перил да и застрял. Солнечным тихим январским днем на крыльце было явно теплее, чем в церкви, особенно если железная печка не топилась. В сыроватом подвале было, впрочем, почти терпимо, но там не было ни света, чтобы пробраться к тюфяку на полу, ни таза для умывания, ни гвоздя, на который можно повесить одежду. А масляная лампа, принесенная Полем Ди, смотрелась в подвале настолько печально, что он предпочитал сидеть на крыльце и согреваться с помощью спиртного, сунув бутылку в карман куртки. От выпитого действительно становилось теплее, но глаза у Поля Ди все время были красными. Он зажал руки между коленями не потому, что они дрожали; просто ему некуда было их деть. Заветная жестянка из-под табака была теперь открыта, и содержимое ее рассыпалось и валялось как попало, превращая его то ли в свою игрушку, то ли в жертву.
Он никак не мог понять, почему ему на все это потребовалось так много времени. Он с тем же успехом мог бы прыгнуть в огонь вместе с Сиксо, и они отлично посмеялись бы вместе. Все равно ведь пришлось сдаваться, почему же не встретить свою гибель со смехом, выкрикивая «Севен-О» [14] Seven (англ.) — семь. К этому времени Сиксо уже знал, что у него будет ребенок.
? Почему бы и нет? К чему откладывать? Он уже однажды смотрел вслед своему брату, махавшему на прощанье рукой с задка телеги, — жареный цыпленок в кармане, на глазах слезы. Мать. Отец. Матери он не помнил. Отца никогда не видел. Он был самым младшим из трех сводных братьев (мать у них была одна, а отцы разные), проданных Гарнеру и живших у него на ферме без права выходить за ее пределы целых двадцать лет. Однажды, в Мэриленде, он встретил четыре семьи рабов, которые в течение ста лет жили вместе: прадеды, деды, матери, отцы, тетки, дядья, двоюродные сестры и братья, дети. Мулаты, квартероны, негры, метисы. Он смотрел на них с восторгом и завистью, и каждый раз, встречая большие семьи цветных, приставал к ним с вопросами, кто кому кем приходится. Ему рассказывали с удовольствием.
— Это вот моя тетушка. А вон тот мальчик — ее сынок. А это двоюродный брат моего отца. Мама была замужем дважды, так что это моя сводная сестра и ее двое детишек. Ну а перед тобой — моя жена…
Ничего подобного у него самого никогда не было, но, подрастая в Милом Доме, он о семье не тосковал. У него были братья, двое друзей, на кухне — Бэби Сагз, хозяин, который учил их стрелять из ружья и внимательно прислушивался к их словам, и хозяйка, которая варила им суп и никогда не повышала голоса. Двадцать лет они прожили в этой колыбели, пока не уехала Бэби, не появилась Сэти и Халле не взял ее в жены. У них была настоящая семья; и Сиксо тоже с чертовским упрямством стремился создать настоящую семью с той женщиной с тридцатой мили. Когда Поль Ди распрощался со своим старшим братом, старый хозяин уже умер, хозяйка стала какой-то нервной, а их общая колыбель дала здоровенную трещину. Сиксо уверял всех, что миссис Гарнер заболела по вине доктора, потому что тот давал ей лекарство, которое дают жеребцам, когда они ногу сломают, а порох тратить не хочется, и, если бы не новые правила, введенные этим учителем, он, Сиксо, обязательно бы все ей рассказал. Они над ним посмеялись. У Сиксо всегда было наготове очередное объяснение. Все-то на свете он знал. Даже про удар мистера Гарнера — Сиксо заявил, что тому просто выстрелили в ухо. Кто-нибудь из завистливых соседей.
Читать дальше
![Тони Моррисон Возлюбленная [litres] обложка книги](/books/420258/toni-morrison-vozlyublennaya-litres-cover.webp)




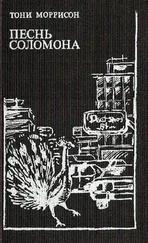

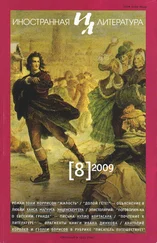

![Джоанна Линдсей - Соблазн для возлюбленной [litres]](/books/392043/dzhoanna-lindsej-soblazn-dlya-vozlyublennoj-litres-thumb.webp)
![Тони Моррисон - Любовь [litres]](/books/400488/toni-morrison-lyubov-litres-thumb.webp)

