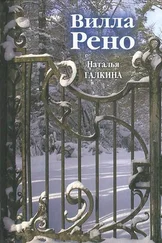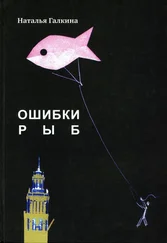Звоном в ушах сменился шепот, шорохом, вранограем, мышеписком.
— Батюшки, да она горит вся, лихорадит ее, бредит она. Беги в кордегардию, пусть мчат в Москву за врачом.
— Разве ты теперь врачевать разучилась?
— Не разучилась, старая стала, сил поубавилось, а она мне слишком своя, пусть чужой по-своему лечит, и я буду по-своему. Сперва пусть врач на зеркальце подышит, потом знахарка войдет, травой стеклышко протрет. Беги быстрей. Нет, стой, Авдотью пошли, у ней ножки скорые, рука легкая.
Старый доктор, француз обрусевший, уж на что русского бреда наслушался да насмотрелся, но, этим байкам внимая, только вздыхал, плели, не краснея: мол, барышня в ночной сорочке неглиже на льду на пруду долго лежала, не углядели, застудилась небось; когда лежала? — спрашивал доктор; так нынче ночью, отвечали, да еще мимо нее привидение Брюсово на коньках каталось, охлаждение телес, потрясение чувств у девушки вышло, помрачение рассудка; а вдруг ее призрак нечаянно коньком зашиб?
Глубокой осенью, сидя у очага, сказала Сара:
— Василиса, ты умеешь пунш готовить?
— Умею, голубка; да ты не бредишь ли снова?
— Нет, сделай мне, хочу попробовать немножко, ложечку, чарочку, глоточек.
Задули свечи, на накрывшей фарфоровую миску решетке пылали синим огнем кусочки сахара, алели угли в очаге, Сара отпила теплый глоток, благоухающий шафраном, цукатами, гвоздикой, и перевозчик в черном, везущий ее по темной реке, развернул лодку, направив великое суденышко свое к берегу живых.
— Погадай мне, Василиса.
— На картах? По руке? На гуще кофейной?
— Авдотья говорит, ты на тени гадаешь.
— Сиди, как сидишь, я у тебя за спиной карты на пол кину, и те, на которые тень твоя падет, тебе истолкую.
— Говорят, гадать грех, — сказала Сара.
— А это смотря кто гадает, как и кому.
Зима уже подступала, кидалась в окна снегом, а вступив в права, замела все подступы к Глинкам, инеем рисовала на стеклах белые искрящиеся сады, наполняющиеся сине-голубым светом.
У Брюса в Глинках было три колоды карт Таро (“тарок”, — говорил он): древняя, современная французская и из будущего. “Ты украл ее из будущего? — спросила девочка. — И не вернешь?” — “Я сделал ее дубликат, вот этот, ничего возвращать не надо”.
— Что ж ты так сердце держишь на своего вертопраха? — спросила гадающая Василиса. — Чай, и ты ему изменишь с законным мужем не за понюх табаку. Причем ты ему по умыслу, а он тебе по дурости.
Казалось, зиме не будет конца.
В Глинках услыхала Сара такую зимнюю тишину, в какой больше не удалось ей пребыть нигде и никогда, и всю жизнь плескался у ней на глазном дне оттенок синевы, заливающий ненадолго сумеречные зимние окна.
Василиса рассказывала, как привез Брюс в Глинки Елизавету Петровну, занемогшую, отравленную по приказу Бирона, — привез к ней. знахарке, ведунье, и вылечила она Елисавет, отлежалась будущая императрица, поправилась. “Тоже вот, как ты, по саду гуляла”. Сара вспомнила строчки из проклятого письма: императрица делала приехавшему в Санкт-Петербург д’Эону — под видом брата мадмуазель де Бомон — авансы, он уклонился от романтического рандеву с постельным флиртом, государыня узнала о его романе с Сарой, Сара исчезла, он боялся, как бы не постигла ее участь Лопухиной, оговор, пытки, острог, Сибирь и прочее. “Никогда она не причинила бы мне зла, мне, внучке ее спасителя”.
Разговаривали о любви Брюса к жене.
Когда ему было двадцать шесть лет, он женился на Маргарите Мантейфель. Посаженым отцом на свадьбе был царь».
— Забавно, — сказал Лузин. — Называли Брюса «русским Фаустом», а где Фауст, там и Маргарита. Да еще и Мантейфель; это что ж у нас в переводе? человекочерт?
— Мало ли кого как называют, — раздраженно сказал Шарабан. — Сидел на своей Сухаревой башне, наблюдал светила в подзорную трубу вроде малого телескопа, люди попроще и рассудили: что Брюсу ночью на башне делать? только черта ждать. Между прочим, в Санкт-Петербурге Яков Вилимович был попечителем протестантских приходов, пастора в свою Берг-коллегию и Мануфактур-коллегию проводить богослужения постоянно приглашал. Думаю, если что для него с именем жены было связано, так это латинское изречение известное «Margaritas ante porcos», равноценное русскому «метать бисер перед свиньями», у латинян жемчуг, у нас бисер.
«Если Якоба Брюса, уроженца Москвы, звали на русский лад Яковом Вилимовичем, любимую его жену из известного эстляндского рода, дочь генерала Цоге фон Мантейфеля, именовали то Марией Андреевной, то Марфой Андреевной, словно была она и та библейская сестра, и эта; впрочем, возможно, у нее было три имени, и звалась она изначально Маргарита Мария Марта.
Читать дальше