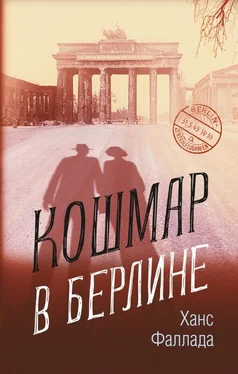Как велика и обильна была эта хомячья заначка, Долль узнал всего несколько дней спустя от полицмейстера.
— Сходите на Зеештрассе, герр бургомистр, и посмотрите, как русские трясут цахесовский погреб!
— Так-так! — отозвался Долль с напускным равнодушием, хотя сердце у него разрывалось от гнева и огорчения. — Тайник все-таки нашли? Я был уверен, что он существует, с тех пор как допрашивал этого типа. Собирался и сам пошарить у него в погребе, но руки не дошли…
— Вы бы все равно ничего не нашли, — утешил его полицмейстер. — Этот Цахес уже больше года назад замуровал кладовку для угля — ох уж эти нацисты, не устаешь поражаться, как истово они верили в победу своего фюрера! И никто бы этот тайник не нашел, если б его не выдали.
— Кто же? — поинтересовался Долль.
— Бывшая горничная Цахеса. Она, конечно, думает, что русские ей отсыплют немножко. Ну-ну, пусть дожидается — они тоже не очень-то любят доносчиков!
Но когда Долль чуть позже узнал, как изобильна была хомячья заначка этого заодно-со-всеми-члена Национал-социалистической немецкой рабочей партии, гнев захлестнул его с новой силой, и он потребовал, чтобы Цахеса немедленно, сей же час доставили к нему с молокозавода.
— Ну что, Цахес, — сказал он этому мерзавцу, который, конечно же, все уже знал — ведь подобные новости распространяются по маленьким городкам с быстротой молнии. — Нашли ваш тайник — а ведь всего несколько дней назад вы здесь стояли и клялись жизнью матери, что ничего не прячете. Клятвопреступник, вот вы кто!
Цахес не отвечал: стоял, опустив голову, взгляд метался туда-сюда — лишь бы на бургомистра не смотреть.
— Вы хоть понимаете, какой ущерб причинили городу, да что там — всем немцам? — И бургомистр принялся перечислять: — Фургон табака, сигар и сигарет. Два фургона вина и шнапса — все это украдено у немецкого народа, получено в обход других. Но вы предпочитали лгать и уверять, будто никаких припасов у вас нет, и все приберегали для себя, в соответствии со старым добрым лозунгом вашей партии: частное превыше общего!
Цахес стал еще бледнее, все краски схлынули с его лица; над его головой бушевала буря, но он не произносил ни слова.
— Но и это еще не все. — И Долль продолжил перечислять: — Фургон белья — а у меня для больницы не осталось ни одной простыни, ни одного полотенца. Пять радиоприемников, три пишущие машинки, две швейные, одна лампа «горное солнце» — а еще целый фургон одежды и прочего барахла. Тьфу нас вас, разоритель, предатель собственного народа, сколько же вы наворовали!..
Долль распалялся все больше — его бесило безответное оцепенение Цахеса. В прошлый раз ему не удалось до него достучаться, не удалось пробудить хоть какие-то человеческие чувства — и опять то же самое!
— Вы не понимаете, — продолжал Долль, овладевая собой, — вы вообще не думаете о том, какой удар вы нанесли по жалким обломкам немецкой репутации, если, конечно, от нее еще хоть что-то осталось! Когда я с протянутой рукой являюсь в комендатуру и жалуюсь, что мне опять нечем накормить малых детей, туберкулезников, тяжелобольных, что мне неоткуда взять койки для больницы, — знаете, что мне там отвечают? «Бургомистр должен изыскивать средства. У немцев все есть — просто они прячут свое добро. Немцы — лгуны и обманщики. Поищи хорошенько, бургомистр!» И выходит, что русские правы! А с какой стати им менять свое мнение о нас, если они находят тайники вроде твоего, мерзавец ты эдакий?! А теперь сотни людей должны мерзнуть дальше, потому что в нужный момент ты не соизволил раскрыть рот, негодяй!
И тут опозоренный и обруганный Цахес все же раскрыл рот, в первый и единственный раз, и фраза, которую он произнес, была достойна настоящего национал-социалиста — она могла родиться только в мозгах члена партии:
— Я бы выдал герру обер-бургомистру свой тайник, если бы он пообещал мне долю, пусть даже небольшую…
Бургомистр Долль остолбенел, потрясенный этим бесстыдным, чудовищным эгоизмом человека, который был совершенно равнодушен к страданиям других — лишь бы самому не страдать. И ему вспомнился недавний разговор с адъютантом коменданта. Адъютант рассказывал, что простые солдаты Красной армии долго думали, будто немцы живут так же, как их собственный народ: что война разорила их до крайности, что они чуть ли не умирают с голоду… Они не видели другого объяснения, почему немцы так безжалостно разоряли их родину. Но по мере наступления, очутившись на немецкой земле, они все увидели собственными глазами: деревни, богатые и благоустроенные, каких у них на родине не осталось, хлева, в которых теснился откормленный скот, здоровое, сытое сельское население. И в крепких каменных домах этих крестьян они обнаружили не только огромные радиоприемники, холодильники, всяческие удобства — нет, среди всего этого великолепия нашлись самые простенькие, дешевенькие швейные машинки из Москвы, пестрые платки с Украины, иконы из русских церквей — сплошь награбленное, наворованное добро. Зажиточные хозяева отнимали последнее у бедняков. И тогда в солдатах Красной армии вспыхнула ненависть и глубокое презрение к этому народу, который не ведал стыда, не желал обуздывать свою алчность, стремился все захапать, все загрести под себя — и пусть остальные пропадают.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу